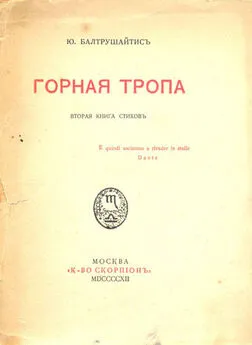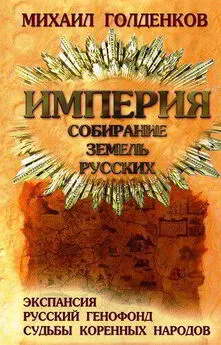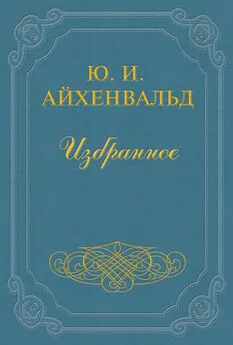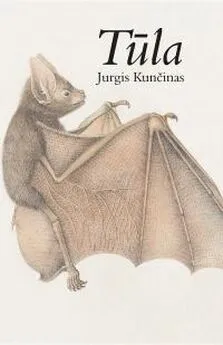Юргис Балтрушайтис - Литва: рассеяние и собирание
- Название:Литва: рассеяние и собирание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юргис Балтрушайтис - Литва: рассеяние и собирание краткое содержание
Литва: рассеяние и собирание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Перемены, которые мне довелось наблюдать на Кипре, происходили очень медленно, будто страна забылась сном, и вдруг, в одночасье, пролетели двадцать четыре года, пока я пила капуччино все в том же кафе за углом моего дома…
Россия — Литва
Томас Венцлова
Москва 60-х
Перевод с английского Тамары Казавчинской
Интервью
Эллен Хинси. В январе 1961-го вы уехали в Москву. С чем это было связано? С тем, что КГБ преследовал ваш независимый кружок?
Томас Венцлова. Я полагал, что в большом городе мне будет легче скрыться от всевидящего ока КГБ. И не ошибся: трения мои с властями были внутрилитовского свойства, у московского КГБ и без меня забот хватало, и особого интереса к моей скромной особе тамошние чекисты не испытывали. Во всяком случае, меня больше ни разу не вызывали на допрос или для беседы. Впрочем, у меня были и другие причины для отъезда, вызванные самим процессом взросления.
Э. Х.Не можете ли Вы хотя бы в общих чертах нарисовать картину Москвы того времени? Какое она произвела на вас впечатление, когда вы появились там зимой 1961 года?
Т. В.Ну, Москва для меня была не внове, я знал, например, ее музеи и театры, а они и тогда были, и теперь остаются одними из лучших в мире. Но любви к ней, как к Ленинграду — Санкт-Петербургу, я никогда не питал. Уж слишком она огромная и хаотичная. В одном стихотворении я сравнил ее с критским лабиринтом, который, в свою очередь, есть метафора Аида. Московская архитектура была либо византийского свойства (причем большинство церквей выглядели заброшенными, а то и полуразвалившимися), либо это была эклектика XIX века, в лучшем случае — стиль модерн, а я до него не большой охотник. Конечно, встречались кое-где приятные глухие уголки, — вроде, скажем, Кадашевской набережной неподалеку от Кремля, где я прожил несколько лет, — но почти все такие места были сильно попорчены домами сталинской постройки или конструктивистскими монстрами. Москва — город шумный, пыльный, зимой грязный от почерневшего снега. Почти все известные мне квартиры были отчаянно захламлены, лестницы расшатаны, с застарелым кошачьим запахом. Одевались люди бедно и провинциально (не без исключений, конечно). На всем лежала печать системы: с одной стороны, на каждом углу — милиция, у прохожих тусклые, напряженные лица, нередко помеченные страхом; с другой стороны — хамство и пьяные драки, от которых нельзя было укрыться, — во многих районах ходить по ночам, а то и днем не рекомендовалось. Магазины, в том числе и книжные (они-то интересовали меня больше всего), снабжались скверно, а если на прилавок «выбрасывали» что-нибудь стоящее — повторяю, книги тоже были дефицитом, — то все расхватывалось вмиг. В центре, правда, работало несколько приличных ресторанов — кстати сказать, цены там отнюдь не зашкаливали, — но туда попасть можно было только по блату, то есть по знакомству. В общем, царила скудость и серость, хотя не кричащая нищета. Кстати, почти все это я хорошо знал по Вильнюсу. Если Москва чем и отличалась, так это людьми. Но, конечно, нужна была толика счастья, чтобы выйти на того, кого надо.
Э. Х.Начнем с того, что у вас не было жилья и первым делом вы остановились в гостинице. Что это была за гостиница и где она находилась?
Т. В.Чтобы жить в Советском Союзе — неважно где, — не нарушая закона, нужна была прописка в милиции. Само собой, в городе находились тысячи и тысячи нелегальных иммигрантов, но они все рисковали. Моего друга Зенонаса Буткявичюса, у которого не было прописки, «повязали» на улице, продержали сутки и отпустили, приказав покинуть город в течение 72 часов. Он сидел с уголовниками и вынес на волю множество записок, которые мы потом разносили по адресам, каждый раз получая стаканчик водки за доставку. Но стоило остановиться в гостинице, и все решалось само собой. В большие гостиницы в центре, конечно, было не попасть, и, уж во всяком случае, цены там кусались; но в северной части Москвы, возле так называемой ВДНХ — Выставки достижений народной хозяйства, — построили кучу дешевых отельчиков, где за койку в общей комнате брали рубль в сутки (для сравнения: средняя зарплата равнялась тогда 100–200 рублям в месяц). Ясно, что на них и пал мой выбор. Оттуда на метро, составлявшем гордость столицы, да и всей страны, можно было быстро, всего за пятак добраться до центра. У меня в номере обретался еще один постоялец. Он причинял определенное неудобство, потому что иногда приводил на ночь то ли невесту, то ли подругу — и при этом сконфуженно просил «не обращать внимания и спать спокойно», что я старался исполнять усердно, хотя и с переменным успехом. Первый месяц прошел тихо-мирно, но потом гостиничный персонал стал на меня глядеть волком. В конце концов, они заявили, что, согласно правилам, после месячного постоя с жильцов взимают уже по два рубля в сутки. Это мне уже было не по карману, да и столь затяжное пребывание в гостинице само по себе выглядело подозрительно. Я было сунулся в другой отельчик, но там обо мне уже предупредили. В общем, ничего не оставалось, как сдаться на милость моих московских друзей. Слава Богу, их у меня хватало.
Э. Х.У вас сложился какой-то жизненный распорядок за эти первые недели?
Т. В.Чуть ли не ежедневно я бывал у Наташи Трауберг. В ту пору она жила в Москве у родителей со своим мужем, литовцем Виргилиюсом Чепайтисом (кажется, у них тогда уже был сын). У отца Наташи, знаменитого кинорежиссера 20 и 30-х годов Леонида Трауберга, была замечательная библиотека, которую я весьма усердно штудировал. Вечерами ходил к другим друзьям, обычно один, иногда — с Наташей или Виргилиюсом. Самым притягательным местом была квартира Григория Померанца — вернее, не квартира, а крошечная комнатушка в одном из забытых Богом переулков у Москвы-реки. Там только и было, что кровать, куда усаживались гости, стол, на который ставилась водка и бутерброды, и голая лампочка под потолком. Хозяин комнатушки до войны окончил ИФЛИ, либеральное по тем временам заведение, где даже в годы глухого сталинизма умудрялись дать студентам приличный багаж знаний и привить кое-какие основы мышления (среди тамошних профессоров был Дьёрдь Лукач, а среди студентов-заочников — Солженицын). В годы войны Померанц служил в Красной армии, затем был арестован, несколько лет просидел в лагере, вышел после смерти Сталина и теперь едва сводил концы с концами, работая библиографом. Педагог милостью Божьей, он часто собирал у себя молодежь, чтобы порассуждать о Гегеле, индийской философии, современном искусстве и, конечно, о текущей политике. То был неофициальный просветительский кружок, напоминавший вильнюсские кружки подобного рода, но без какой-либо определенной программы и, пожалуй, более высокого уровня. Жена Григория, Ирина, и его пасынок, Володя Муравьев, не скрывавший своих вполне антисоветских взглядов, принимали самое живое участие в обсуждениях (Володя, кстати, дружил с Аликом Гинзбургом [185] См. в настоящем номере статью о литовском номере «Синтаксиса» Александра Гинзбурга. (Здесь и далее — прим. перев.)
). Наташа и Виргилиюс хорошо знали их всех. Пранас Моркус [186] Пранас Моркус (р. 1938) — литовский киносценарист, радиожурналист, эссеист, общественный деятель. В 1955–1957 гг. учился на филологическом факультете МГУ.
в свои московские годы тоже бывал на сборищах у Померанца. Там я встретил немало будущих друзей.
Интервал:
Закладка: