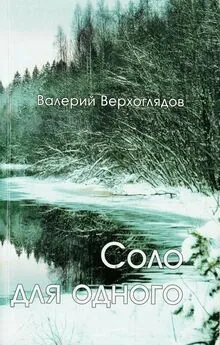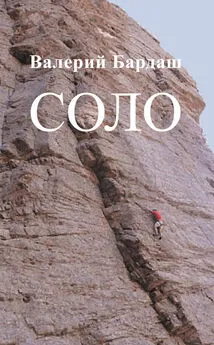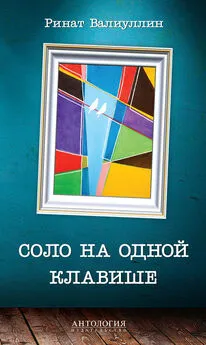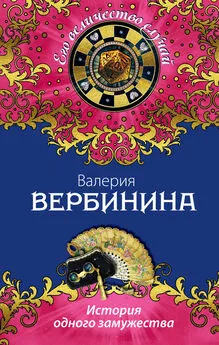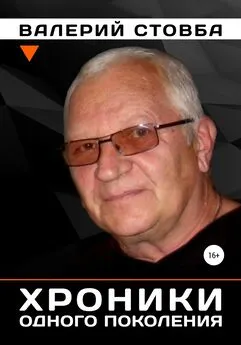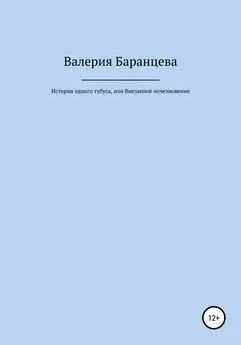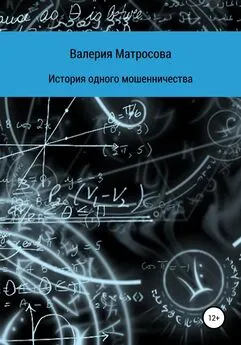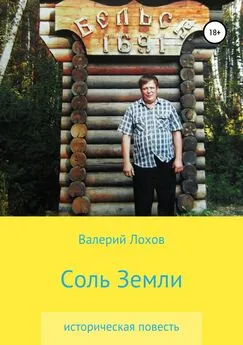Валерий Верхоглядов - Соло для одного
- Название:Соло для одного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ларионова
- Год:2006
- Город:Петрозаводск
- ISBN:5-901619-23-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Верхоглядов - Соло для одного краткое содержание
Надежда Акимова
[аннотация верстальщика файла]
Соло для одного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Новая должность намертво привязывала меня к рабочему столу. О том, чтобы в будний день выехать куда-нибудь из города, можно было только мечтать.
Чтобы не терять время, решил заняться страницами прошлого. (Эта глава называется «Идут часы походкою столетий»).
Историю Карелии я тогда представлял лишь в самых общих чертах. И поэтому узнал немало нового, читая краеведческую литературу (в том числе и дореволюционную) и копаясь в архивных документах. Выяснилось и нечто грустное: оказалось, что целые пласты хроники нашего края совершенно не изучены историками. Помню миг восторга, который охватили меня, когда среди большевиков, сосланных сюда, в «подстоличную Сибирь», обнаружил имя патриарха отечественной экономической мысли Станислава Густавовича Струмилина. Он был отправлен в такую глухую деревню, что жители ее даже обычное тележное колесо считали диковинкой. Именно о таких уголках Олонецкой губернии исследователи того времени писали, что стоит отъехать от Петербурга на триста верст и словно попадаешь на триста лет назад.
Определивший ссыльного на постой десятский впервые в жизни увидел керосиновую лампу, взятую Струмилиным для работы по вечерам. Восхищенно покрутив шпенек, выдвигающий и убирающий фитиль и оценив всю хрупкость стеклянного осветительного прибора, представитель власти решил, что от такого богатства ни за что не убежишь. На этом основании он полностью избавил ссыльного от надзора.
Подобная деталь может заменить страницы описательного текста. Однако в книге «Пряжа» ее нет. И эпизод с керосиновой лампой, и многое другое, объясняющее, как Струмилин попал в Карелию, было безжалостно сокращено редактором. Я на нее тогда сильно обиделся и только через несколько лет, когда стал чувствовать и даже как бы на ощупь осязать архитектуру построения книги, осознал, что по-другому и быть не могло. Я настолько увлекся биографией мыслителя и борца, так любовно ее описал, что она торчала из общей ткани повествования, как огромный валун на проезжей части дороги. Потому и откатили его без сожаления в канаву небытия.
И в этом повествовании, несмотря на кажущуюся свободу выбранной формы, увлекательное жизнеописание экономиста-революционера, похожее на круто замешанный детектив, тоже оказывается лишним.
Прости меня, Станислав Густавович, я должен идти дальше.
Одна из самых неожиданных встреч на пряжинской земле у меня произошла в Маньге. В годы гражданской войны на подступах к этой деревушке произошли жестокие схватки с белофиннами. Восстановив события по документам, я решил посмотреть, как бы это могло разворачиваться на местности. Приехал в Маньгу, на улице спросил у женщины, есть ли кто-нибудь из пожилых людей, помнящих о тех событиях. Она назвала фамилию и показала дом.
Открывшего дверь мужчину я бы не причислил к древним старцам, на вид ему было немногим за шестьдесят. Он внимательно выслушал объяснения и о работе над книжкой, и о возникшей необходимости представить картину давних боев.
— Понятно, — кивнул головой. — Сейчас все обскажу самым подробным образом.
И обсказал, и показал.
— Оттуда наступали финны. А здесь отрыли окопы моряки.
— Какие моряки?
— Обыкновенные. В черных бушлатах. У них было два «Максима». Один установили вон там на горушке, а второй косил с фланга. Хорошая позиция. Финны ничего не могли сделать…
Он говорил уверенно, и было видно, что не фантазирует. А я все больше и больше приходил в недоумение — знать о некоторых упомянутых подробностях мог разве что наблюдательный и удачливый разведчик. Я нарочито усомнился в одном из приведенных фактов, он в подтверждение привел еще несколько, и тогда я прямо спросил, откуда ему все это известно. Он вначале немного смутился, а потом, когда со всей очевидностью осознал, что попался в незатейливые силки, рассмеялся. Оказалось, что моего рассказчика, в ту пору пятнадцатилетнего паренька, финны мобилизовали вместе с подводой для доставки боеприпасов, это им, а не нашим он подвозил патроны. Поэтому и знал, где располагались пункты боепитания противника, где финны сосредотачивались в боевые порядки, каким образом организовали наступление. Так что он действительно был очевидцем событий.
Позже я обнаружил свидетельства, подтверждающие слова этого Гавроша поневоле. Среди защитников Маньги действительно были пятьдесят моряков Онежской военной флотилии, у которых кроме винтовок имелись два станковых и восемь ручных пулеметов.
Редактору книжки Татьяне Михайловне Юрна я ничего не рассказал о своем секретном источнике информации, поэтому она полагала, что картина боя была воссоздана по документам, и даже похвалила меня за этот маленький, но достаточно живо написанный сюжет.
Так уж совпало, что именно по поводу главы, посвященной гражданской войне, у меня произошел серьезный спор с редактором. Это была не приболевшая Юрна, а заменившая ее на время сотрудница той же редакции. Она много лет работала с нашими мастерами публицистики и, видя перед собой рукопись начинающего автора, стала причесывать меня под некий усредненный журналистский стиль. Я тут же, как Ивашечка, растопырил руки-ноги и бурно воспротивился почетному сидению на общей лопате. Конечно, редактор не хотела ухудшить книгу, ни в коем случае, но из добрых побуждений начала укатывать текст, словно асфальтовое полотно. Мне такая затея не понравилось. Дело здесь не в авторских амбициях, а в том, что не терплю, когда навязывают чужую волю.
Так уж случилось, что после отъезда из Суоярви пришлось долгое время жить без опеки и надзора взрослых. Брат женился и перебрался к своей теще, а мать постоянно болела и месяцами лежала то в одной, то в другой больнице. Я был предоставлен самому себе. Страстное желание стать путешественником и писателем уберегло от многих глупостей, совершаемых в юношеском возрасте. Не попал в дурную компанию, потому что равнодушно относился к романтике подворотен. Обожая всевозможные выдумки, тем не менее не стал пустым мечтателем, потому что приходилось думать, как и на что жить. Я вырос в портовом районе, где вдоволь насмотрелся на пьяных, это были конченые люди, и мне не хотелось такой судьбы. Попав на флот, где многие от скуки пили, я из чувства противоречия не брал в рот ни капли. Даже нецензурную брань по тем же соображениям вычеркнул из своего лексикона.
Когда я стал складывать слова в рассказы и газетные публикации, то старался не щеголять без нужды словами иностранного разлива, но, случалось, употреблял яркие диалектизмы.
С редактором мы заспорили из-за малости.
После боев за Маньгу наши войска, чтобы не оказаться в окружении, были вынуждены отступить. Время года — весна. Точнее, последние числа апреля. Что из себя представляют наши проселки, я знал не понаслышке и поэтому написал: «Погода стояла розвязь — развезло большак». Редактор никогда не слышала слово «розвязь» и поэтому просто вычеркнула все предложение. Я сказал, что такая редактура меня не устраивает, и, пройдясь по рукописи, снял вообще всю вкусовую правку. Скандал, одним словом. Редактор призвала на помощь заведующего. Разборка продолжалась больше часа. «Розвязь» оставили, в других случаях искали компромиссные решения. (Парадокс ситуации заключается еще и в том, что этот спор нас с редактором очень сблизил, мы стали относиться друг к другу с большим уважением. Написав следующую книжку, я сам попросил заведующего, чтобы именно ей — опытной, строгой и принципиальной — передали для работы мою рукопись).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: