Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]
- Название:Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант] краткое содержание
Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Хорошо, Георгий Александрович, — сказал я, понимая, что Гога решил не уступать. — Я, с вашего позволения, задержусь денька на два и сам перечту… У меня появились какие-то новые суеверия… Всего вам доброго, не болейте!..
— Спасибо. До свидания, — сказал Гога.
Шёл 2009-й. Пятого ноября, в день рождения моей матери, вернувшись с родительской могилы, я написал: «…Конечно, они-то любили / другую страну, а не ту, / в которой пришёл я к могиле, / но видят меня за версту, / хотя приподняться не в силе / на стылом советском посту. / Не крик, а действительно пенье / раздастся на жалкой скамье. / А смысл подарит воскресенье, / как новую встречу семье. / Цветами наполнится рама, / не дав победить ковылю. / Не думайте, папа и мама, / что я вас уже не люблю!..»
Стихи, прочтённые при встрече, задели Гранина.
— Я хочу тебе сказать, то, что произошло с нами, со страной, не имеет примеров. Это переход в другую жизнь, совсем другую. Не осталось ничего из того, что было. Это — безумная трагедия миллионов людей. Следующему поколению кажется, что его это не касается. Но — касается. Хотя пока оно этого не знает или не чувствует. Их лишили своего прошлого. Существовала страна, вместе со всеми её страхами. Она существовала за счёт какой-то мечты и преступной действительности. А сейчас возникает какая-то дурная нелепость. Властители не знают, за что схватиться. Страна, которой кажется, что она, может быть, обречена. Об этом боятся говорить...
Я тоже завёлся.
— Надо смотреть в оба века и в оба глаза. То, о чём вы говорите, случалось не однажды. Был не один перелом… Нет не только великих историков, просто историков нет, вместо них — трусливые самозванцы. А история не для трусливых. Нет Карамзина, нет Пушкина, кто напишет?..
— Ты прав, но папам и мамам от этого не легче. Их бессилие, и эта неясность…
— Они бы мучались сейчас, они бы страдали…
— Огромная трагедия для пап и мам. Если бы они знали, сами должны были бы хотеть смерти…
— Об этом я не могу говорить, мне важно, чтобы они услышали… И, по-моему, услышали… Так же, как вы.
— Когда Германия каялась, — сказал Гранин, — она избавлялась от отвратительной реальности. Мы не избавились…
Летом я привёз из Пушкинских Гор холст, который написал Борис Козмин, смотритель Петровского, имения Ганнибалов, заставив посидеть в его мастерской. Это был мой портрет. «…Без рамы и даты, / откуда твой образ возник, / смурной, бородатый / и словно поддатый старик?.. / Какая-то лава / кипит и доходит до глаз… / Была ли нужна тебе слава? / Была… Ну и нахрен сдалась?! / А тусклое злато? / А ржавый от крови булат? / Судьба ль виновата?.. / Страна?.. / Или сам виноват?.. / Не ищет виновных / старик. Вину отвергает свою. / В зрачках уголовных / и я, беззащитный, стою. / С нацеленным дулом / он борется взглядом опять и опять. / Он хуже, чем думал. / И лучше, чем мог полагать».
— Как это случилось, что возраст тебя не берёт? — спросил Гранин, услышав.
— Не мне судить, но очень много долгов, и все на виду…
Пьесу о Кине я Дине Морисовне так и не передал.
Шапиро довёл спектакль почти до выпуска, но актёр, игравший Кина, обрушился в овраг беспутства, и, не предупреждённый об этом, я оказался в Риге. Здесь Адольф привёл меня в зрительный зал, усадил рядом с собой и дал сигнал к началу. Занавес был открыт заранее, на сцену вышли изящные девушки, сыграли первую сцену до появления Кина, и Шапиро только тут сказал мне о «болезни» исполнителя. После этого он попросил сделать ему маленькое одолжение, выйти на минуту на сцену и тихо присесть у ног красавицы Елены.
Это присаживание затянулось больше, чем на сезон, и, чувствуя себя громоздким БДТшником в окружении молодых и лёгких рижан, я понял, что время и место не писать, а играть Кина были не моими...
Когда позвали на юбилей БДТ и посадили в хорошем ряду, до меня дошёл смысл заданного Диной вопроса: давно ли я видел Гогу.
На неуверенных ногах он вышел из левой кулисы, и почти сразу взялся за приготовленный для него пюпитр. Сделать эти несколько шагов стоило Гоге серьёзных усилий, и он был полностью сосредоточен на первичных физических действиях.
Опираясь на крепкую деревяшку, он стал зачитывать приготовленные кем-то слова, абсолютно пресные и обязательные лишь в рамках официоза. Читал он безынтонационно и незаинтересованно, погружённый не в текст и смысл, а в то, чтобы справиться с трудной задачей.
Закончив, Гога, не реагируя на аплодисменты, пошёл назад, и это его прятанье за кулисы было третьей, не менее трудной частью ошеломившего меня выхода.
На него было больно смотреть, потому что Гога не походил на себя, и в зале возникла гнетущая тревога…
Я пошёл за кулисы, чтобы поздравить актёров, и неожиданно наткнулся на Товстоногова, который вблизи ещё больше был не похож на себя прежнего.
— Здравствуйте, Георгий Александрович, — сказал я.
— Здравствуйте, Володя, — сказал Гога и взглянул на меня глазами затравленного зверька, у которого нет сил убежать и скрыться из своего обречённого тела. Простейшие слова поздравления казались неуместнымии, и, всё-таки, их надо было сказать.
— Поздравляю вас, Георгий Александрович, — сказал я.
— И я вас, — сказал Гога.
И это было всё до самых похорон.
Умер Сергей Юрский. Его смерть я принял, как катастрофу.
Моё поведение при известии о смерти стало недопустимым. Просто я сделать с собой ничего не могу. Если раньше я говорил «не может быть», но держал себя в руках, то сейчас напоролся на то, что несдержанность оказалось неожиданной и непозволительной для меня самого.
Звонила корреспондентка, наверное, молодая, и, убедившись, что говорит со мной, назвала издание и сказала о Серёжиной смерти. Моё «не может быть» вышло криком и повторялось несколько раз, пока я мотался по комнатам с трубкой в руке, как будто крик мог превратить известие в ошибку. Я замолчал, чувствуя стыд. Этого не должно было быть, и это случилось. Звонившая думала, что я что-нибудь скажу для неё, но я говорить отказался. Через пять минут позвонила другая, и я снова отказался, жёстко, без извинений, как будто она должна была понять то, чего ещё не понимал я сам.
Стремясь, как всегда, определить существо, свою статью к моему юбилею Юрский назвал «Упрямец Володя». Если бы он не ушёл, моя зеркальная попытка была бы названа «Умница Серёжа». Теперь название должно было измениться. «Последний умница»…
Мы были ровесниками… Были…
Я не знал, насколько близок мне этот человек, с которым теперь не встретиться, не связаться по телефону. Его присутствие было свойством всех этих лет, и мне оставалось лишь следить за тем, как изменяется его облик. «Когда человек умирает, изменяются его портреты», — открыла нам Ахматова...
Он умер восьмого февраля девятнадцатого года, и всё прошлое стало приходить в движение. Четырнадцатого звонил Борис Лёскин, чтобы поздравить с днём рождения и спросить, как дела; я сказал, что работаю, и спросил, знает ли он о Серёже. Борис сказал, что за два или три дня до смерти он говорил с Юрским, и тот вдруг закричал, что не хочет больше ничего играть. «Кричал?» — переспросил я. — «Да». И крик, и нежелание играть были совсем не похожи на Юрского. Потом Лёскин дозвонился до Наташи, и она сказала, что в четыре часа ночи Сергей встал, вышел в другую комнату и оттуда крикнул её по имени, а когда она вошла за ним, он был мёртв.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Рецептер - Смерть Сенеки, или Пушкинский центр [журнальный вариант]](/images/nocover.webp)
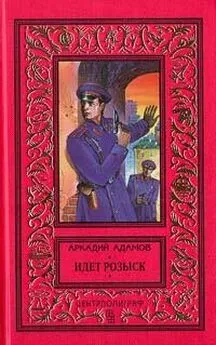
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/430464/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal.webp)

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/445480/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant.webp)

![Валерий Попов - Ты забыла свое крыло [журнальный вариант]](/books/1082416/valerij-popov-ty-zabyla-svoe-krylo-zhurnalnyj-var.webp)
![Владимир Санин - Приключения Лана и Поуна. Повесть [журнальный вариант]](/books/1098915/vladimir-sanin-priklyucheniya-lana-i-pouna-povest.webp)
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/1099794/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian.webp)
