Васил Попов - Корни [Хроника одного села]
- Название:Корни [Хроника одного села]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Васил Попов - Корни [Хроника одного села] краткое содержание
Корни [Хроника одного села] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот Спас в калитку заглядывает. Босьо, отвернувшись, что-то мастерит, а вокруг снуют ласточки, воркуя, ходят по стрехе голуби, у ног прыгают воробьи, зяблик и мухоловки посвистывают на ветках шелковицы, перелетают с места на место, а в глубине двора петух с оранжевыми перьями, забравшись на поленницу, отчитывает пятерых белых курочек. И над всем этим аисты на трубе щелкают клювами.
— Босьо! — крикнул Спас. — Эй, Босьо!
Босьо поднял голову, ударился о низкую стреху, вышел из-под навеса и выпрямился. Спас был в зеленом пиджаке внакидку, черных галифе и грубых коричневых сапогах.
— Чего тебе, Спас? — сказал бы Босьо, если бы не был бессловесным.
— Я так, — сказал Спас. — Мы ведь соседи, решил заглянуть, посмотреть — жив ли ты.
— Жив еще, — сказал бы Босьо, будь он не Босьо, а кто другой, — как видишь!
— Ну что ж, вижу, только что это за птицы вокруг тебя? В селе людей не осталось, а ты занялся разведением птиц.
— Они сами разводятся, Спас, — сказал бы кто другой. — Может, музыка им нравится, не знаю, только им без людей тоже тоскливо. Раньше прилетала только ласточка Иваничка с мужем, а теперь у меня целых шесть семейных пар…
— А ко мне не прилетают, — сказал Спас, — видать, боятся телевизора или радио… Да, чуть было не забыл, сегодня утром опять трое в космос полетели.
— Пусть себе летают, — сказал бы Босьо, — я телевизор не смотрю и радио не слушаю.
— Опять трое, — повторил Спас, — в космос полетели.
Босьо молчал. Спас покачал головой и пошел — его увели с собой зеленый пиджак и коричневые сапоги. «Пусть себе летают, Спас, — сказал вслед ему про себя Босьо, — почему бы им в космосе не полетать, ведь должны же они посмотреть, что там. Вот, например, я вожусь здесь с этими птичками, а глаза мои в это время тоже летают. Вчера вечером лег и только-то хотел заснуть, а глаз нету, отправились куда-то, улетели. Я удивился — казалось бы, глаза человечьи, а летают так, будто у них крылья выросли. И куда только, Спас, они не залетали, где не побывали, чего только не видели! И в Рисене были, где наши односельчане дома себе новые ставят. Поля там, говорят, необъятные, по пятнадцати тысяч декаров каждое — всем полям поля, и дома что надо. И в город слетали, где у меня сыновья и внуки. Только не очень-то они, эти сыновья и внуки, обо мне вспоминают, говорят, слишком я молчу. Хорошо, пусть я молчу, только почему-то, когда они обо мне вспомнят и напишут, то все что-нибудь просят: «Отец, — пишут, — пришли нам свиной окорок и, если есть, курочку, а то здесь одни бройлеры, они никуда не годятся, а наш малыш — твой внук — больно бледненький, и доктора велят ему хорошо питаться, и чтобы еда была натуральная». Так вот, Спас, летали мои глаза, чтобы на сыновей и внуков поглядеть, и, наглядевшись, вернулись обратно. Лежу я себе, лежу, а они рассказывают. Ах уж эти глаза ненасытные, чего только они не видали. Рассказали, что в Рисене Стояна Иванова во второй раз похоронили, через двадцать лет, и бабка Черна теперь каждый день к нему на могилу ходит и больше ни с кем, кроме него, не разговаривает. А теперь скажи-ка мне, Спас, — ты ведь и в телевизоре, и в космосе, и в космонавтах разбираешься, — зачем бабка Воскреся кажный день ни свет ни заря на кладбище ходит, сидит там и с мертвыми разговаривает? Бывает, и мне не спится, и я тоже пойду туда, притаюсь за кипарисами и слушаю, а у самого волосы на голове шевелятся; теперь-то я попривык, и они перестали шевелиться. А она говорит, говорит, мертвецам о селе рассказывает, и о Рисене, и о тебе, и о Лесовике, и о том, как чуть ли не кажный день приезжает на «джипке» Ликоманов и уламывает Лесовика пойти к нему заместителем, и о Генерале… Чего только не рассказывает им бабка Воскреся. Хорошо, я бессловесный, но я живой, и ты приходишь проверить, жив я или нет, а ведь мертвые — они мертвые, а значит, тоже бессловесные, зачем же бабка Воскреся с ними разговаривает? Ведь у мертвецов и уши-то уже не уши… Только кто знает, может, они все же слышат. Этого никто не знает! Значит, бабка Воскреся им говорит, а они слушают.
В таком случае, разве можно с точностью сказать, кто слышит, а кто не слышит? Я вот тогда, когда мне птичка песню пропела и я заговорил, к кажному из вас обращался, рассказывал, как она мне одной песней поведала все о жизни и о белом свете. А вы надо мной смеялись, словно я дурачок какой, и когда я уходил, за моей спиной пальцами у башки крутили… Скажи-ка, Спас, почему ты в своем доме сам с собой разговариваешь? Ведь я все слышу, когда вечером мимо прохожу. Сидишь ты на высоком стуле, который дважды вместе со всем гарнитуром покупал у Илариона, сосешь свой турецкий мундштук — только чалмы тебе не хватает — и сам с собой разговариваешь. С кем же, интересно, ты толкуешь? Ты-то не бессловесный? С телевизором или с радио, или с теми тремя космонавтами, что опять полетели, или с отцом своим разговариваешь, что оставил тебе в наследство один только острый нож? Ты еще, когда тебя в тюрьму сажали, спрятал этот нож в ограду, засунул между камнями, и старую войлочную шапку отца своего спрятал, ту, засаленную, что вся пропиталась потом и пылью. А я ведь знаю, что для тебя она цены не имеет и ты потому ее теперь на стенку повесил заместо фотографии. Ведь вот и часы — мертвая вещь, а заведешь их, и они «Тираны, трепещите…» запоют — значит, и часы не совсем бессловесные, и они хотят кому-то что-то сказать, пропеть, пока завод не кончится, и им неохота сидеть в одиночестве и только тикать и показывать, сколько времени.
Сколько времени? Будто так уж важно знать, сколько времени! Вот я тебе расскажу, Спас, а ты объясни: позавчера часы эти показывали пять часов двадцать минут утра, а я в это время был на войне, и была ночь. Немцы бабахают, землянка дрожит. Так вот, значит, я на войне, а глаза мои, крылатые, не со мной — они сюда, в село прилетели. Глаза тогда тоже думали о земле, нашей кормилице, сухой и потрескавшейся. Я зажал уши от артиллерийской канонады, каска сползла до подбородка… Словом, я в Венгрии, а глаза мои здесь бродят по нивам, щупают, растирают комья земли, будто пальцы, а земля уже проснулась, забродили в ней соки!..»
Петух с оранжевыми перьями пропел «первых петухов», и Босьо сел в постели. «Значит, не могу я молчать, — сказал он себе, протирая глаза и удивляясь, когда это они успели туда-сюда обернуться, — вроде бы я спал, а в то же время слова так и лились, сами со Спасом разговаривали, больно-то их интересует, что час для разговора неподходящий — Спас, может, спит или его нет. Вчера я, как всегда, молчал, а он спрашивал и сам же за меня отвечал. Что же это получается, какая же это бессловесность, если я и во сне и наяву ищу собеседника и сам с собой разговариваю? Раньше в селе было полно людей и животных, легко было молчать, а сейчас зачем мне молчать, когда никого нет, а слова изнутри меня мучают. Они знать не желают, словесный я или бессловесный…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Васил Попов - Корни [Хроника одного села]](/books/1078374/vasil-popov-korni-hronika-odnogo-sela.webp)


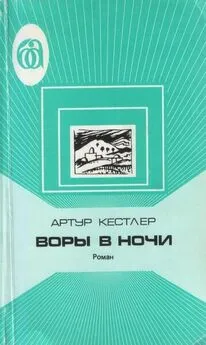
![Леонид Почивалов - Двое в океане [Хроника одного рейса]](/books/1076644/leonid-pochivalov-dvoe-v-okeane-hronika-odnogo-rej.webp)




