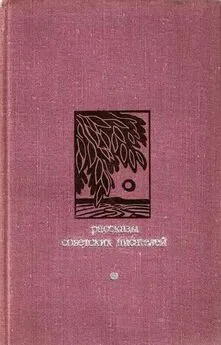Пётр Курков - Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени
- Название:Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00159-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Курков - Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени краткое содержание
Категория жизни: Рассказы и повести советских писателей о молодежи нашего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тогда он брал выстиранные мною брюки, нес, роняя, на балкон. По пути намек гас. Измайлов забрасывал брюки на веревку и ложился читать.
Скоро брюки уже летали по околотку, гонимые микрорайоновским смерчем. Падали на чужой балкон, вызывая горячие расспросы супруга и алую растерянность его жены.
Вечером, вынося мусорное ведро, я находила брюки в кустах, злобно скомканные в узел.
В свою очередь, я, помыв, постирав, стерев, убрав, поставив и положив на место, приготовив, погладив и выхлопав, тоже испытывала будто бы не свое, музыкальное ощущение. Четкое стаккато пульса в подушечках пальцев, изъеденных содой и порошком. Мощное, блаженное тутти усталости во всех членах. Все переделав, я чувствовала музыку.
Измайлов, напротив, должен был воодушевиться ею, чтобы испытать потребность в действии, лучше — однообразном.
Вероятно, из него вышел бы отличный строевик, чья стихия — шагистика по плацу в громе духового оркестра. Но от службы в армии он как-то уберегся.
Даже в расслабляющие минуты совместного погружения в музыкальные отголоски спрос и предложение между мужем и мной не совпадали.
Зато маленькая кокетка всегда и легко ладила с Измайловым.
Казалось, каждый из них, мягчея и раскисая, снисходит до другого. Снисхождение всякий раз начиналось с того, что муж напрочь забывал обо мне. А крошка женщина — обо всем, что было свойственно Измайлову как человеку.
Их сближение не было восхождением. Торопясь, оно катилось под гору, теряя в суете снижения все отличительное от тысяч других. И где-то на дне, чувствуемые одним осязанием, умалившись до признаков пола, они становились наконец достойными и равными: крошка женственного, слипшаяся с крошкой мужественного. Они всегда спешили, две крошки на губах Кроноса.
Меня же, третью в их постели (ни сесть, ни встать, как связанный Гулливер; поворот головой — и волосы больно натягивались на колышках-пальцах Измайлова), щадя, накрывала онемелость, даря состояние неприсутствия.
В темноте оставались звуки — единственные опоры, по режущим пикам которых можно было уйти. Исчезнуть.
Прыжками — через зыбкое, чавкающее болото, жадно засасывающее и отрыгающее из плодоносных глубин скользкую влагу. Через частый осот вдохов и выдохов, отравленных испарениями дезодорантов.
Бегом — к далекой лунной полоске, ввалившейся через окно спасительным аншлагом ночи.
Скоро, скоро будет утро.
Тогда самым близким в музыке было для меня ощущение предшествующего духовному итогу огромного труда. Труда, безусловно, физического.
Я слушала и слышала, как каждый великий с криком боли, ужаса и отвращения обнаруживал в себе животное. Как сдирал покровы чуждой плоти. Как зверь выл в нем, сопротивлялся и хотел быть. Как в труде, только в труде делался человек.
Все бетховенские, например, симфонии — об этом.
Измайлов же относил формулу «Труд создал человека» к очень далеким временам.
К животному, к той искомой обезьянке, чьей задачей было — вкалывать, видоизменяться, терпеть голод, холод, снова вкалывать в бессчетных поколениях, чтобы он, Измайлов, наконец создался и ходил бы в филармонию.
То, что труд уже создал человека, само собой закрывало для него тему. Измайлов знал: он — человек. Слово это, понятие, давно и безнадежно витало над ним, как отчаявшийся голубок над пепелищем. Измайлов не знал, что процесс превращения длится. Будет длиться всегда. Для того, кто хочет быть человеком.
А в сущности, все симфонии — неоконченные.
Слышу: Маркус — Морозову, шепотом:
— Что интересно… Я про такое в книжках не читал. Только закинул… Грузило не успело опуститься. Сразу — ррраз! Веришь, нет, как ждала, чтоб я ее зацепил. Веду ее, а она зырит, как судья, бельмы выпучила… Харя такая зеленая, в тине… Лет полста с гаком, не меньше. Старая… Идет, собака, как бревно, только бери. А подсака у меня не было. Подвел ее… Хвать, дурак, руками… Она мне хвостом по соплям — и ушла. Матерая, гада. Не рыбак я, не совладал… Не понравился ей. Природа, блин…
Морозов — Маркусу, шепотом:
— Не ори, Маргариту разбудишь. У меня тоже было. Большую упустил…
Что говорит дальше Морозов, я не слышу.
…Чувствую порывистое движение воздуха, холодным веянием опахнувшее меня. Не птица ли пролетела? Оборачиваюсь.
Около меня, на пригорке, сидит маленькая розовокожая женщина. Такая крохотная, будто я ее вижу в перевернутый бинокль. Она свободно раскинула по траве стройные ножки в изящных туфлях.
Улыбается и проводит кончиком язычка по краям отполированных ногтей.
— Ни хрена ты еще не понимаешь вот что, — говорит она нежно. — Конец света! Никаких сил нет слушать твою ахинею. Да, да. Весь твой жар правдоискательства, все потуги, все поиски — остывшее приторное пойло. Разве что прополоскать рот. И выплюнуть. Вместе с памятью о себе, такой чистой и честной. Тьфу! Забудь, как первую ночь. Ее не за что помнить, нашу первую ночь. Не правда ли?
Она сплевывает, оглаживает розовый бархат платья на бедре. За этим жестом — ласки не одного, многих мужчин.
— Конечно, — отвечает она. — Не Измайловым же это кончается. Ты еще много узнаешь любви.
«Спасибо, — думаю я. — Как раз это сильней всего меня беспокоило».
— О-о! — смеется она. — Какая неприступность! Хочешь, я расскажу тебе, как это случится однажды, потом еще, еще. Рыбонька моя, тебя будут любить.
«Не нужно».
— Правильно, — легко соглашается она. — Загадочность красит. — И меняет тон на деловой.
— Когда ты соберешься все это написать? Ну-ну… не делай козье лицо! Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Писать — это как мстить. Тебе осталось только накорябать на бумаге. Хорошо бы пораньше. Тогда и у меня сдвинулись бы сроки. Мне не повредил бы годок-другой. Ведь все начнется с этого недоноска. С твоей куцей повестушки.
Она ложится, закидывает ножку на ножку, пассом фокусника выхватывает из травы горящую сигаретку.
— На поверхность мертвой зыби тогдашнего литературного моря, где непотопляемо торчали всего несколько кораблей — каждый сам себе флагман, — где вперевалку ходили пузатые буксиры и бултыхалось несметное количество утлой мелочи, а на отмели ежедневно выбрасывало трупы самонадеянных пловцов, ты вынырнешь случайно. Везунишка! Два-три сочных описания того блюда, которое всегда в меню, но редко на столе, — это тебя и вынесет. Твою повестуху назовут правдивой.
Женщина оборачивает ко мне смеющееся лицо. Без единой морщины. Даже там, где они неизбежно должны появляться при смехе, их нет.
— Тогда начнется мода на правдивость. Тебе не смешно? Все кинутся расколупывать болячки. И чем больше их кто-то найдет и чем дурнее они будут вонять, тем умудренней и прозорливей будет считаться их расковырявший. Тебе повезет. Твое женское рукоделье, твои кухонные философизмы никого не затронут. По этому пункту не обольщайся. Ты выедешь на броской, антиэстетической ситуации, на этой сантехнике.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



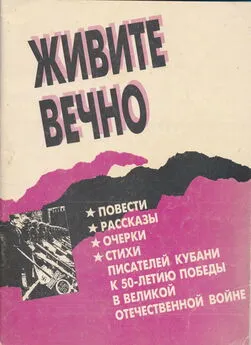
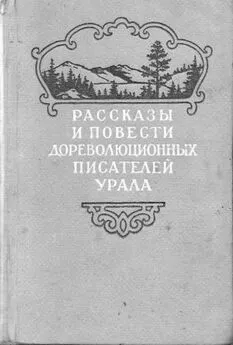
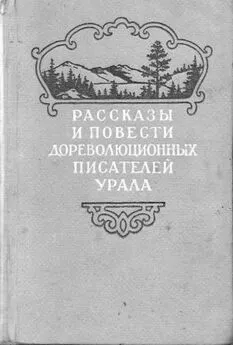


![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/1099254/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk.webp)