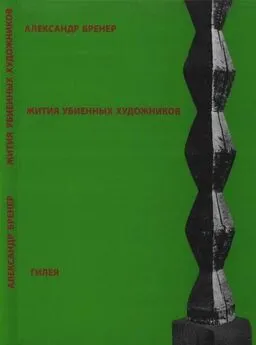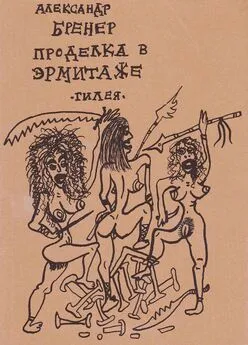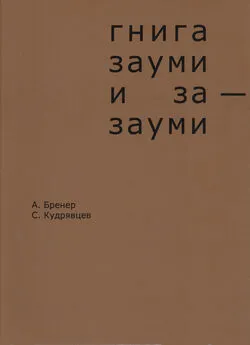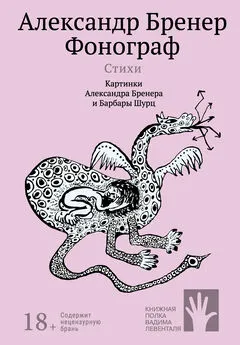Александр Бренер - Жития убиенных художников
- Название:Жития убиенных художников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гилея
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87987-105-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бренер - Жития убиенных художников краткое содержание
Скорее, она — опыт плебейской уличной критики. Причём улица, о которой идёт речь, — ночная, окраинная, безлюдная. В каком она городе? Не знаю. Как я на неё попал? Спешил на вокзал, чтобы умчаться от настигающих призраков в другой незнакомый город…
В этой книге меня вели за руку два автора, которых я считаю — довольно самонадеянно — своими друзьями. Это — Варлам Шаламов и Джорджо Агамбен, поэт и философ. Они — наилучшие, надёжнейшие проводники, каких только можно представить. Только вот не знаю, хороший ли я спутник для моих водителей»…
А. Бренер
Жития убиенных художников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несколько раз я виделся с художником Леонидом Соковым. Он был гостеприимным хозяином, потчевал меня водочкой и рыбицей, кормил какими-то пирожочками.
Сказочный мужичок-с-ноготок, ушлый и добродушный дядька, Соков сообразил на скорую руку, что мир — мерзкая клоака, и надо бы позаботиться о тёплом местечке. Кажется, тёплое местечко нашлось у него где-то в Италии, куда он ездил летом к неаполитанскому графу, покупавшему его раскрашенных медведей и Микки-Маусов. Соков был остряк, анекдотчик, а по духу — кустарь-матрёшечник, но слишком уж напыщенный и приглаженный. Он хихикал над баснословным успехом Кабакова, но и сам хотел бы того же, только руки оказались коротки.
На вечере Алексея Хвостенко в какой-то галерее я познакомился с поэтом Константином Кузьминским. Хвостенко в тот день пел под гитару, как обезглавленный петух, а Кузьминский выглядел как гусляр Садко, которого морской царь перекормил осьминогами. Он хрипел и задыхался, но всё равно курил одну за другой длинные женские сигареты. Одет он был в советскую солдатскую шинель с какими-то царскими орденами и американскими пуговицами. Он был немного опереточный, но всё-таки живой — с сердцем и мозгами, со страдальческой улыбкой.
Я встречался с Кузьминским ещё несколько раз, бывал у него дома. Его квартира в Бруклине напоминала кунсткамеру или архив, где пылились артефакты, рукописи, фото, книги, какие-то рамы и картонки. Посреди всего этого хлама бродили нервные облезлые борзые, оставляя на вещах клочья шерсти. Кузьминский сидел в вольтеровском кресле, кашлял, вещал, поучал, пил чай и выплёвывал стихи Кушнера и Сосноры, Хлебникова и Пруткова. Это была какая-то воинствующая декламация. А сам поэт выглядел как памятник императору Александру Третьему работы Паоло Трубецкого.
Кузьминский был настоящим бурлящим и кипящим деятелем культуры, как Сумароков или Тредиаковский, но он чувствовал себя в опале, в изгнании — и страдал, хирел из-за этого. Ему запрещено было пить, и это его тоже угнетало. А я сидел рядом с ним на низенькой табуретке, как Витя Малеев — без школы, без дома…
Однажды я встретился на Бродвее с художником Андреем Ройтером, и он пригласил меня на стриптиз.
Мы оказались в маленьком и тёмном, обитом бархатом местечке, где на сцене одна за другой раздевались невероятно красивые девушки. Их жесты напоминали движения зверей в зоопарке — если бы звери могли танцевать под музыку. Хлебников, глядя на этих танцовщиц, написал бы ещё один шедевр — под стать своему «Зверинцу». А я просто обалдевал, дышал и каменел.
Они появлялись и исчезали, как видения По.
Самая красивая, самая мускулистая, самая худая, самая невинная после шоу подошла к нам.
— Пойдём куда-нибудь выпьем, парни?
Но Андрей вежливо отказался.
А я мог и хотел!
Мы вышли в душную ночь, и она повела меня от одного угла к другому, и здания расступались, и она прикасалась ко мне своим голым плечом, и что-то говорила, смеялась…
В результате мы очутились в длинном вишнёво-мерцающем баре, где не было ни души, кроме бармена и какого-то старика в белом костюме.
Мы пили коктейли. Затем моя спутница — я не запомнил её имя — плясала перед нами на стойке. Её танец соответствовал высказыванию Малларме: «Орфическое истолкование Земли — в нём состоит единственный долг поэта, и ради этого ведёт всю свою игру искусство».
Этот медленный, атавистический танец посрамлял ничтожный лепет нью-йоркских художников, их самовлюблённую возню, а заодно и всю неоновую трескотню Манхэттена. Эта акробатка была единственным подлинным гением среди местных фальшивых талантов, дарований и бездарностей.
Она плясала, прыгала, скакала, а потом наступил рассвет.
Все эти дни в Нью-Йорке я думал о Казимире Малевиче (в самом деле, не о Комаре же, не о Меламиде мне было думать!).
Малевич пришёл ко мне во сне и сказал: «Чепуха. Просто стой на горизонте, как безликая фигура. Внизу — земля, наверху — небо. Возьми шпагу и проведи в воздухе знак. А воздух — это я».
Потом Малевич отвернулся и ушёл. На нём был плохой, ветхий костюм. И я помню его лицо: фактурное, дырчатое, как изношенный мешок или кусок драной кожи.
Целыми днями я размышлял, что этот сон значит. И понял, что должен нарисовать знак доллара на картине Малевича в музее МоМА.
Почему знак доллара?
Потому что мне нравилось рисовать его с детства!
Я никому не сказал об этой идее — за исключением Горана Джорджевича. Горану мой план понравился. Он заверил меня, что это классно, что это встряхнёт Нью-Йорк.
Я стал ждать, когда у меня кончатся деньги — чтобы нечего было терять. А пока просто болтался по Бронксу и Гарлему, пил Dr Pepper, ел куски горячей пиццы. Нью-йоркский тяжёлый воздух впрыскивался в меня, как сперма сутенёра — в неумелую проститутку.
В эти дни я встретился с парнем по имени Юджин Садовой. Он был русским американцем, с оранжевым загаром и искусственными бицепсами, откуда-то из Лос-Анджелеса, работал там то ли журналистом, то ли агентом ФБР. Он стал водить меня в тайские рестораны, в джаз-бары, в отель Челси, в дискотеки, в стрип-клубы, в какие-то кокаиновые притоны, на садомазохистские шоу. С ним было смешно и уютно, в нём совмещались взрослая пошлость и детский порок.
Однажды мы переночевали в неряшливом отеле на Таймс-сквер, и там, в постели, я рассказал ему о своём жгучем желании вписаться в холст Малевича.
Юджин прямо-таки завёлся от этой идеи.
— Здорово! — хихикал он, ворочаясь. — Здорово!
В Нью-Йорке стояла сорокаградусная жара. В полдень мы с Юджином пошли в китайский ресторан, а потом — на встречу с Алленом Гинзбергом, с которым Юджин условился по телефону.
Гинзберг сидел в кондиционированном кафе и пил апельсиновый сок со льдом. Он выглядел как кусок забытого на солнце сыра: одновременно затвердевший и покрытый каплями мутной влаги. У него было полчаса на беседу. С ходу он пожелал, чтобы я зачитал ему одно из своих стихотворений.
— Хорошо, — сказал я и процитировал большой кусок из пушкинского «Утопленника».
— Неплохо, — сказал Гинзберг.
Потом он спросил, что я думаю о Евтушенко.
— Это — литератор, — промямлил я. — А как литератор он — колхозник-кооператор.
Гинзберг спросил, что я думаю о Ярославе Могутине.
— Это — дуэт, — сказал я. — И в этом дуэте один голос — как у невропата, а другой — как у технократа.
Гинзберг поинтересовался о Пригове.
— Пригов — лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий и кавалер Ордена дружбы народов.
Гинзберг посмотрел на меня сквозь затуманенные очки, а потом уставился на свои часы:
— Мне пора.
На прощанье я попросил у него сто долларов, но он сказал, что у него с собой только тридцать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: