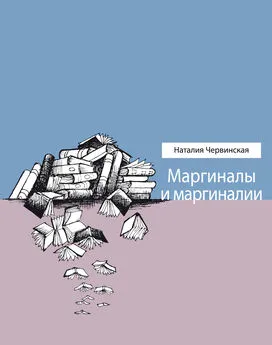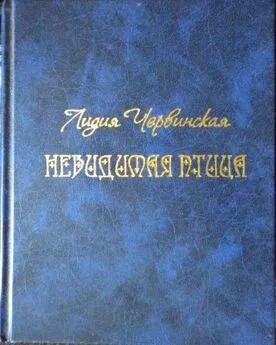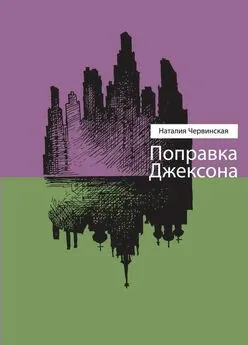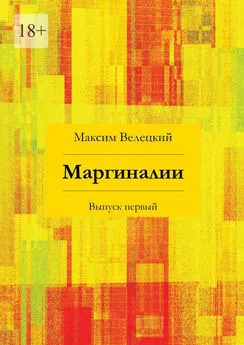Наталия Червинская - Маргиналы и маргиналии
- Название:Маргиналы и маргиналии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1951-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Червинская - Маргиналы и маргиналии краткое содержание
Маргиналы и маргиналии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Садись, спасибо за бутылку. Ребята, начинаем по новой, Джереми виски принес! Ура.
Не помню точно, с какого времени я была уверена, что мне там не жить. Уж точно с шестьдесят восьмого года. Когда люди говорили о своих планах на будущее, я слушала сочувственно, но в глубине души удивлялась: «Какие могут быть планы на будущее? Здесь?»
Не берусь логически, исторически, морально и философски обосновывать такую точку зрения. Это была не точка зрения, а чувство.
Ведь планы на будущее предполагают надежды на успех. А у меня было ощущение, что успех в тех условиях всегда был компромиссом, часто – цепью мелких предательств. Привычка к успеху разъедала людей изнутри. Я знала, я выросла среди успешных людей.
Конечно, был и другой род успеха: успех моральной победы, достигавшийся ценой отказа от всех внешних, материальных, поверхностных успехов. Успех маргиналов: диссидентство, самиздат. Вокруг меня были такие люди, и я их любила и восхищалась ими. Считала их героями. Но я-то героем не была. Моя относительная порядочность была наивностью и чистоплюйством и во многом объяснялась тем, что я выросла в обеспеченной семье и с поисками еды, жилья и прочими ужасами дела почти не имела.
Мне совершенно не хотелось жить в обществе, где всегда есть место подвигу.
Все, кого я знала, часто и детально говорили об отъезде. Теперь почти совсем забыли самое главное: в те времена люди, решившиеся на эмиграцию, чаще всего покидали свое место жительства впервые, а до того и в туристическую поездку никогда не выезжали. Впервые – и навсегда.
Никто не рассуждал о патриотизме, конечно. Это было пустое слово из газетного лексикона. Патриотизм – это любовь. Если за пределы ограниченного пространства тебя не выпускают, то трудно относиться к этому пространству с любовью. Помещение, из которого запрещают выходить, всегда напоминает камеру.
Глупо говорить о предательстве родины. Это еще кто кого предал. Но оставляли друзей, сотрудников, родителей часто оставляли, иногда и детей. Вот это ощущалось предательством. Вот об этом и старались не думать по ночам.
Было множество вполне логичных, практических причин для отъезда, например: плети и глумленье века, гнет сильного, насмешка гордеца, боль презренной любви, судей медливость, заносчивость властей и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге… Ну и конечно, безвестный край, откуда нет возврата, – ведь эмиграция приравнивалась к смерти.
В конечном счете мне кажется, что те, кого я знала, разделились на уехавших и оставшихся главным образом по уровню непреодолимого омерзения к системе.
Замечательный есть термин у мультипликаторов: отказ. Если что-то надо показать увеличивающимся, его сначала уменьшаешь – на долю секунды, на несколько фаз…
Нет, никто уже не знает слова «фаза». Ну на несколько кадров…
Хотя уже и слово кадр теперь ничего не означает, нет пленки.
Ну на долю секунды. Секунда еще есть? Ах да – слова «мультипликатор» уже нет…
Перед тем как увеличиться, мячик уменьшается. Перед тем как сорваться с места, заяц чуть подается назад, замирает.
Нас держали в неподвижности, на оттянутой назад тетиве. А многих и буквально: в отказе. А потом выстрелили во внешний мир, во тьму внешнюю. В загробный мир капитализма, который был нам известен только по книжкам про старые времена, но в то же время был миром научной фантастики, ушедшим на десятилетия вперед. Нас отделило от прошлого не расстояние в милях и километрах, вполне преодолимое, а расстояние исторических формаций.
Наши представления о прошлом и будущем тошнотворно закружились. Машина времени мотала нас по ленте Мёбиуса.
Через несколько месяцев после отъезда я оказалась в Венеции.
У людей, сбежавших из тюрьмы, бывают нереалистичные представления о прелестях свободы. Мы ожидали от таинственной заграницы, от легендарного Запада, изменения всех законов не только социальных, но, возможно, и времени и пространства.
В Венеции именно это и произошло для меня. Все же раньше под ногами была земля, а над головой небо – а здесь и того не было, улицы были не улицы, всюду вода под ногами, между домами расщелины, коридоры, над которыми узкая струйка неба.
Венецианская выставка, биеннале того, 1977 года, была посвящена советскому подпольному искусству, квартирным выставкам и самиздату.
Самиздат наш, тетрадочки и листочки, лежал в музейных витринах – как каменные наконечники стрел неолита, как обломки этрусских ваз. Очень сильно действовало на мозги человека, впервые вышедшего из этого неолита всего лишь три месяца назад.
И вот в музее – а это было на площади Святого Марка – мне показывают мое прошлое в застекленной, с температурным контролем витрине. На сыром венецианском ветру полощутся геральдические полотнища с именами художников, моих соучеников по школе в Лаврушинском. По площади Святого Марка идут под руку Галич с Синявским. Бродский читает стихи в театре Ла Фениче, золоченой табакерке. Он выглядит веселым и после чтения радостно рассказывает, что накануне какой-то художник-нонконформист свалился-таки по пьянке в канал.
Галич умер в Париже через две недели. Театр Ла Фениче сгорел восемнадцать лет спустя, в тот самый день, когда умер Бродский.
Когда я отплывала от Венеции, начиналось наводнение. Мне всерьез показалось, что город тонет, что я отвернусь – и Венеция утонет, растает, как и вся моя предыдущая жизнь.
Кинь ты Русь, живи в раю – уж прямо так и в раю? Интересно, почему поэту представлялся подобный выбор? Многие эмигранты тоже так считали. Ждали вечной опеки и даже благодарности от некоего обобщенного Запада.
Но земную жизнь пройдя до половины , оказались мы скорее в чистилище, в Лимбо.
А Вергилиев никаких не было.
Самое главное: появилась новая для нас философская категория – деньги. С деньгами мы обращаться не умели, да и как было научиться? Мы провели полжизни там, где государство выдавало гражданам наличные на мелкие карманные расходы, как родители детям выдают. Называлось это пособие зарплатой. Серьезные расходы – медицину, образование, жилье – начальники оплачивали из общего котла и сами решали как; даже за питание наше приплачивали, потому что многие цены были понарошку, субсидированные и убыточные. Чтоб на хлеб хватало. Буквально: на хлеб. И пустой карман означал буквально: пустой карман. Штанов или пальто. Даже и кошельки далеко не у всех были. Редко употреблялись простые слова: купить, продать. Говорили: дают, завезли, выбросили, выкинули, получили, достали, отоварились. Чувствовалось, что денежные знаки имеют тут мало значения. Начальство обещало, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, а уж при каком, военном или первобытном, – неважно. Объявили, что деньги отживают и скоро их совсем не будет, вроде как гомосексуализма или того же Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: