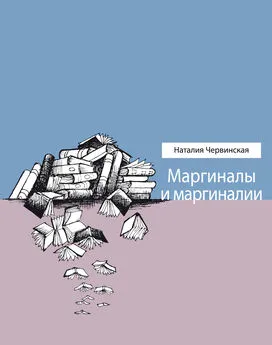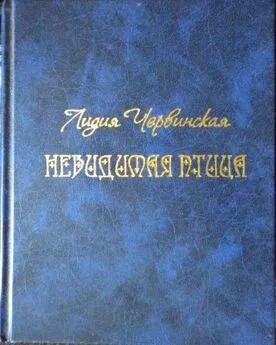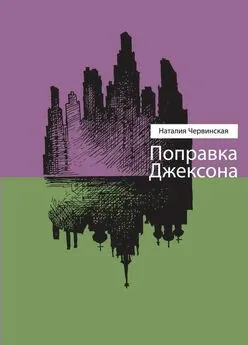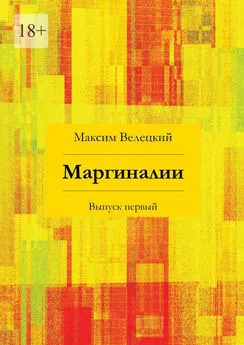Наталия Червинская - Маргиналы и маргиналии
- Название:Маргиналы и маргиналии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1951-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Червинская - Маргиналы и маргиналии краткое содержание
Маргиналы и маргиналии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ведь не только от религии нас избавили. От всякой живой человеческой экономической деятельности нас тоже избавили. Поэтому и в классической литературе мы много чего не понимали. Там ведь всё о деньгах да о деньгах, а для нас это было литературной фантазией: заложенные имения, векселя и чеки, говорящие щуки, брачные контракты, ковры-самолеты и банковские счета, скатерти-самобранки и доходные дома, кредитная карточка, Курочка Ряба с золотыми яйцами, Золотая Рыбка, золотой теленок…
Да, любимые нами «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» – это же сказки, ностальгические романы о погибшем частном предпринимательстве и частной инициативе, капиталовложении и прибыли. Трианон капиталистический, контора «Рога и копыта»; там сладострастное описание канцелярских товаров целиком вышло из Гоголя, только не из шинели и не из птицы-тройки, а из чичиковской шкатулки: «квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче…»
И в «Рогах и копытах»: «Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил».
Советская власть исказила человеческое существование еще и в смысле профессий, уничтожив огромную часть того, чем люди раньше занимались. Сколько потенциальных рестораторов или, скажем, трактирщиков стали журналистами и даже писателями? Сколько галерейщиков и торговцев искусством – пейзажистами и портретистами не то что средней, а ужасной руки? Сколько антрепренеров – погаными актерами или скрипачами? И так далее, и так далее. В этот период времени в обезумевшей стране еще и половину профессий у людей отняли.
У красавца Остапа, героя плутовского романа, инстинкт предпринимательства сильнее полового инстинкта. Мечтая о Рио-де-Жанейро, он упоминает только прогулки в белых штанах – в одиночестве. И это не удивляло читателей, для которых мечта о Рио-де-Жанейро была соблазнительней, чем мечта о любви.
Теперь для нас все начиналось с нуля и любой выбор был почти одинаково труден. Поэтому выбрать можно было и самое практическое – продолжение прежней карьеры, разве что с увеличением зарплаты, собственный дом, тихую глушь буржуазного предместья. И самое экзотическое можно было выбрать, затаившееся со времен детских снов: уехать, например, в Центральную Америку, жить в тропиках. Один выбирал богатство, потому что в конечном счете даже и это зависело от личного решения и большого желания – в меру талантов и характера, конечно. Другой выбирал нищету в опасном городе, в каморке, куда надо было взбираться по узкой лестнице, где мебель была собрана по уличным свалкам и улица постоянно врывалась в окна воплями дерущихся соседей и полицейскими сиренами.
Большинство приехавших не мучило себя стремлением к ассимиляции. Но именно эти, не желавшие ассимиляции, мгновенно узнавали все действительно нужное: сначала о пособиях и благотворительных организациях, а очень скоро и о покупке недвижимости, автомобилей, о мелком бизнесе, страховке и прочих необходимых вещах.
И довольно быстро стало ясно, что преуспеют, конечно же, не те, кто приехал ради свободы слова, а приехавшие ради свободного рынка.
Для свободы слова по меньшей мере необходимо это слово знать, причем на языке той страны, где живешь. А для рыночных отношений достаточно было создать свой собственный волапюк, англо-русский суржик.
За стиль и язык этой эмиграции, третьей волны, в ответе Ильф и Петров, а также Бабель. Это их воображаемую Одессу в те годы имитировали и строили на Брайтоне. Они дали бандитам и будущим олигархам основополагающий миф, язык и прообразы поведения. И конечно, Аксенов. Скорее всего, это произошло потому, что Аксенов так досконально знал и понимал стиляг и фарцовщиков шестидесятых и семидесятых годов. А ведь именно эти люди процветают – и в эмиграции, и в метрополии. Так что естественны совпадения языка и реалий.
Я презирала их косноязычный диалект, и это было глупостью: именно этот диалект и стал предтечей новорусского, на котором теперь говорят все.
В свободное время соотечественники общались между собой. Ели то, что в прежней жизни было праздничной едой, едой для начальства: твердокопченую колбасу, семгу, шашлыки, огромных размеров торты. Пили тоже прежде недоступное: виски, джин, французский коньяк. Ругали Америку. А ассимиляция, говорили они, – какого черта нам с ними ассимилироваться? Тут же никакой культуры нет. Дикая страна.
Интересно, что ругать страну, в которой ты по воле судеб родился, считается неприлично. А страну, которую выбрал сам, в сознательном возрасте, поносить и презирать можно. Почему? Не доказывает ли это твой собственный идиотизм?
От соотечественников в первые месяцы и даже годы мне хотелось держаться подальше. Тот заложник, который рядом сидел на цепи, – его иногда ненавидишь больше, чем бывших своих тюремщиков. Бежишь от него, от объединяющих вас воспоминаний: нет, ты слишком похож на меня, если я смирюсь с тобой, то смирюсь с тем, что из нас сделали.
Зная довольно прилично английский, я рвалась общаться с местными жителями. Однако те местные жители, которые мне были близки по возрасту и уровню образования, уже давно достигли полагавшегося им уровня благополучия и не имели ни малейшего понятия о том, как приспосабливаются в их стране, где снимают жилье, чем кормятся люди неимущие, оказавшиеся в чужой цивилизации. Ничему практическому у них научиться нельзя было. Честно говоря, им даже страшновато было приезжать в те места, где я жила.
Они говорили: «О, о! Какой вы отважный человек! Не представляем, как можно вот так начинать с нуля, мы бы не смогли…»
Потом я догадалась, как им отвечать. Я советовала спросить у собственной бабушки, если она еще жива, и почти никогда не ошибалась. Бабушка оказывалась эмигранткой из Ирландии или Франции, беженкой из Восточной Европы… Иногда даже и у папы с мамой мой собеседник мог бы спросить. Иногда оказывалось, что его самого привезли младенцем – но он решительно ничего не знает, ничего не помнит.
Это потому, что дети иммигрантов отказываются получать сведения о проблемах национальных меньшинств и страданиях беженцев через опыт собственных родителей. Они предпочитают узнавать об этом из мелодраматических фильмов, из университетских лекций с терминологией и статистикой. Домашнего же бабушкиного акцента, смешных манер, странной кухни со странными домашними запахами – этого просто невозможно не стыдиться.
Конечно, я преувеличивала свое знание языка. Говорить-то я могла, но понимать всегда гораздо труднее. И я тогда еще не отучилась произносить жалобные русские монологи с подробным перечислением всех своих проблем. Мне казалось, что мои проблемы глубже и важнее. Может, так оно и было, но такое наивно-эгоистическое отношение к полузнакомым людям не приводит к серьезной дружбе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: