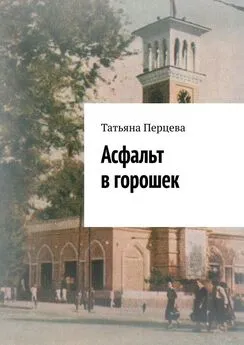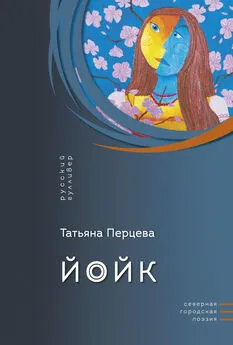Татьяна Перцева - Город уходит в тень
- Название:Город уходит в тень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Перцева - Город уходит в тень краткое содержание
Город уходит в тень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда они пришли на вокзал с тем немногим, что удалось унести, им встретилась знакомая дама, не знавшая о национальности матери.
— Уезжаете? — удивилась она. — Как можно! Мы этого дня двадцать лет ждали!
«Этот день» — гитлеровская оккупация. Она ее 20 лет ждала!
Мама говорила, что уезжали они без особой суеты, не так, как показывали в фильмах: крики, толпа, давка. Просто сели и поехали. Какие-то продукты мама захватила с собой. К эшелонам выносили еду, на станциях можно было набрать воды и кипятка. Деньги у родителей были, хотя цены мгновенно взлетели. Я так понимаю, что, поскольку это были первые эшелоны с Украины, паника еще не достигла высшей точки, многие считали, что война долго не продлится. К счастью, их не бомбили, но эшелон шел очень-очень медленно и под Харьковом чуть не попал в котел. В тот момент отец вышел набрать воды, и тут началась суматоха. В этой панике он едва не отстал от поезда, и мама каждый раз плакала, когда рассказывала о том ужасе. Каким-то чудом он вскочил в последний вагон, а машинист каким-то чудом вырвался из уже почти сомкнувшегося котла.
По вагонам постоянно ходили патрули с проверкой: выявляли шпионов и уклонистов от фронта. Последних было немного, но все же были. Папины документы тщательно проверялись, но его ни разу не попытались ссадить с поезда.
Они ехали несколько месяцев, почти полгода, потому что поезд подолгу стоял, пропуская военные эшелоны. Наголодались, нахолодались; к счастью, сестра не болела. Вернее, ничем серьезным.
Наконец, поезд остановился на ташкентском вокзале. Тогда представлявшем собой ужасающее зрелище. Что бы ни говорили официальные лица, что бы ни снималось в фильмах, правда была страшной. В нескольких метрах от путей валялись люди в лохмотьях. На жаре. Без воды. Умирающие, мертвые, живые. К ним никто не подходил. Иногда подъезжала арба, грузили мертвых, увозили. Иногда кто-то приезжал за еще живыми. Кого-то пристраивали. Развозили по области. По другим городам Узбекистана. Но власти просто физически не справлялись с огромным наплывом беженцев. Насколько я поняла, в городе не осталось свободного жилья. Всех нужно было обеспечить едой. Руки просто не доходили. Сразу встречали только эшелоны с детьми, которых отправляли в детские дома.
Отец немедленно отправился к начальству и предъявил открепление с прежней работы и направление на новую. Нашлись люди, объяснившие ему, что ехать с семьей на Мангышлак не стоит, и вместо этого предложили Сулюкту, маленький киргизский городок, где тоже добывали уголь. Вот они туда и поехали. И провели там больше года. Мама говорила, что городок похож на донышко пиалы, а кругом поднимаются горы. Там отец работал на руднике, мать — в местной газете, сестра оставалась дома. Интересно, что отец получал в день буханку хлеба, мать — половину, сестра — четверть. Мамин хлеб меняли на молоко для сестры, остальным питались. Мама подчеркивала, что отец отдавал весь хлеб в семью, хотя находились мужчины, которые свою долю съедали в одиночку, не делясь с родными.
Весной жены угольщиков посеяли пшеницу и, как ни странно, собрали урожай. Эта пшеница еще долго хранилась в ящике у нас на балконе ташкентской квартиры. Мама рассказывала также, что они собирались компанией и бродили по горам в поисках кишлаков, где меняли оставшиеся вещи на продукты. Их ни разу не обидели и не оскорбили, оставляли ночевать и обращались в высшей степени уважительно.
Времена были другие. Очевидно, слово «национализм» было тогда неизвестно. Это сейчас оно получило самое широкое распространение.
В конце сорок третьего отца перевели в Ташкент, назначив директором горного техникума. Дали квартиру, где родители прожили всю жизнь. Больше они никуда не уезжали. Хотя все эти годы мечтали вернуться в Кривой Рог. Почему не вернулись? Не знаю. Но когда в 1966-м маме предложили перебраться в Мерефу, неподалеку от Харькова, она очень обрадовалась. Но и я, и сестра решительно заявили, что никуда не поедем. Потому что безумно любим Ташкент. Кто же знал, что через четыре года уеду именно я?
Может, и стоило маме уехать на Украину, которую она любила, которая была ее родиной? Не знаю, правы ли мы были, отговорив ее. Но меня до сих пор мучит совесть.
ЦВЕТОК В ПУСТЫНЕ
Споры о жестокости советской цензуры и запрете на творчество продолжаются до сих пор. Цензура действительно была жестокой. Но как-то странно жестокой. При таких строгостях непонятно, как это, скажем, Марк Захаров мог снимать, а главное, показывать свои фильмы. С множеством аллегорий и сплошным эзоповым языком. «Дракон», например. По Шварцу, произведения которого, кстати, тоже свободно издавались, мало того, по его сценариям снимались фильмы.
Особенно ярка жестокость цензуры на примере песни про понедельники… Я такой легальной антисоветчины еще не видела.
Должна сказать, что критики считали почему-то своим долгом громить даже вполне официальные песни. Причем по принципу «на кого бог пошлет».
Скажем, написал наш прославленный композитор Оскар Фельцман песенку «Ландыши». На слова Ольги Фадеевой, той самой, что написала арию Мистера Икс для Георга Отса. Милая, лирическая, абсолютно безыдейная песенка. В этом же году Фельцман написал песню «Мой Вася»; на мой взгляд, пошлость порядочная (имею в виду текст), меня всегда передергивало, когда я ее слышала в исполнении Нины Дорды.
И что? «Ландыши» не полоскал только ленивый. На них обрушилась вся сила советской критики. Невзирая на это, песня звучала из каждого утюга, по радио, на пластинках… «Васю» словом не упоминали. Парадокс, однако.
Последнее время упорно утверждается, что всякие выходившие за границу официоза песни запрещали. Десятками.
Речь идет о таких, как те, о которых я хочу написать.
Были песни «официальные», а были — нет. Среди тех, о которых я рассказываю, имелись и те и другие.
Для себя я бы их разделила на две группы: одесские и экзотические.
При этом я утверждаю, что даже самые неофициальные одесские песни не запрещал никто. Правда, большая их часть с официальной эстрады не исполнялась. Зато широко исполнялась в ресторанах и на всяческих увеселительных мероприятиях. Но никак не запрещалась.
Я чуть не с пеленок знала и распевала «Бублики» и «Ужасно шумно в доме Шнеерзона»: наследство маминой одесской юности.
Вообще, в то время было принято петь. Просто так. Пели в детских и школьных компаниях, собирались и пели взрослые. И не только за столом. По вдохновению. Помню себя лет в шесть. Сидим мы с еще одной девочкой на крыльце чужого дома (очень солидное крыльцо было) и тянем: «Мы то-о-о-оже люди-и-и-и… мы то-о-о-оже лю-ю-юбим»…
У нас в доме пела вся женская часть. Поодиночке и хором. Я в детстве распевала оперные арии. Наряду с «Бубликами». Что слышала от взрослых, то и пела. До сих пор очень люблю «Шнеерзона». Потому что это своеобразное отражение той эпохи. Написал текст Мирон Ямпольский, человек интеллигентный и образованный, заведующий карточным бюро в двадцатых годах. Он еще много чего написал, а вот обессмертил себя Шнеерзоном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
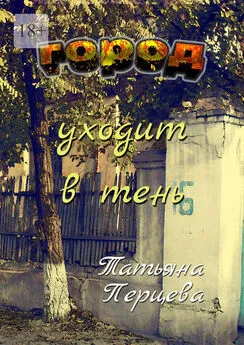
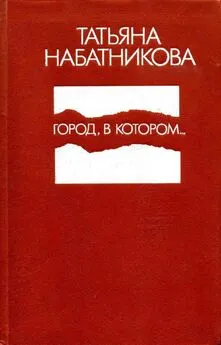

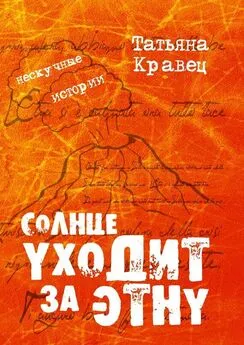
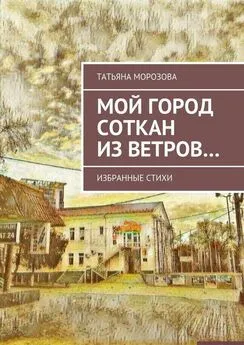
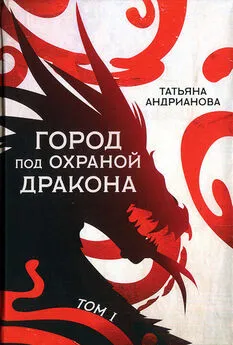
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/1078605/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk.webp)
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/1099950/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si.webp)