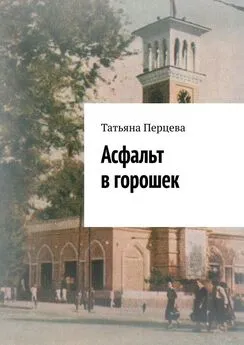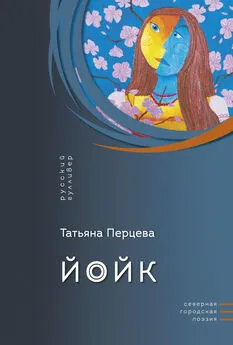Татьяна Перцева - Город уходит в тень
- Название:Город уходит в тень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Перцева - Город уходит в тень краткое содержание
Город уходит в тень - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Весь Ташкент дружно пек мазурку — то ли пирог, то ли печенье с изюмом и грецкими орехами, блюдо не то польское, не то западно-украинское.
А еще в Ташкенте было много корейцев, и на рынке продавали корейскую морковь, капусту кимчи и необыкновенно вкусные соления. У меня подруга была кореянка, так что я попробовала настоящую корейскую кухню. По-моему, они в любое блюдо добавляют горсть чили. Рубленого. Так что нужно иметь железный желудок. На рынках продают смягченный вариант, но тем не менее…
Но было же это! Главное, что тогда мы очень смутно представляли, что вот это евреи, а вот это татары, и не считали, что русские лучше всех…
Так вот, о еврейской кухне.
Дело в том, что тогда, после войны, с едой вообще было не слишком.
Главным блюдом любого праздничного стола был винегрет. Его делали буквально тазиками — дешево и сердито. Но мама, видимо, привносила в винегрет некое творческое начало и делала его по всем правилам: вместо зеленого нынешнего горошка — фасоль. Вместо огурцов — зеленые соленые помидоры и соленая капуста. Я иногда, если не лень, так и готовлю.
Но на нашем столе кроме винегрета — оливье пришел в жизнь советских людей лет на десять позже, и ввиду отсутствия майонеза в Ташкенте делали его со сметаной, — обязательно стояла фаршированная рыба — фиш. Я уже как-то писала, что вещь это весьма трудоемкая. Мама делала на каждый праздник. Я — раз в год. На Новый год, больше сил нет. Кстати, о взаимопроникновении кухонь: рыба фиш стала национальным ташкентским блюдом. Которое готовили множество моих знакомых, вне зависимости от национальности. Просто вот такое общее блюдо, и при чем тут евреи?))) Кого из ташкентских ни спросишь — рыбу фаршировали все. Обычное ташкентское блюдо.
Далее — форшмак. Мама делала его с яблоком. Кто-то с вареной картошкой. Мама картошки не признавала. Я не делаю вообще, поскольку никто в доме не любит. А любят селедку под шубой. Но форшмак когда-то любила. Его хорошо на бутерброды мазать. Вот пишу, и так захотелось! Сделать, что ли? Блендером. А тогда в мясорубке делали…
И все дружно готовили кавардак. Название, которое в России вызывает некоторое недоумение. Это русский вариант слова «кавурдок» — беспорядок, неразбериха. А на самом деле — жаркое с мясом, картофелем, луком, морковкой, но я морковку в кавардаке не люблю.
Ну, про куриный бульон с клецками уж и не говорю. Клецки из мацы — это редко, раз в год, на еврейскую Пасху. Маца дорогая была, много не купишь. А так — просто клецки из теста. И если очень честно, больше всего на свете я ненавидела и ненавижу до сих пор именно это блюдо. Не из-за национальности оного. Просто ненавижу куриный бульон.
А еще больше ненавижу клецки. Но мама упорно пихала в меня все это, чем любви к блюду не прибавила.
Дома у нас в ходу был гусиный смалец. Это действительно вещь, если что-то на нем жарить. Очень нежная штука, типичное изобретение еврейской кухни. Банка со смальцем всегда у нас стояла. Не знаю, где мама брала гусиный жир, но топила сама, точно.
Зато в детстве моим любимым блюдом была фаршированная гусиная или куриная шейка. Знаете, что это такое? Берется кожа с шеи чулком и фаршируется жареной на смальце мукой с луком. Потом выдерживается и режется, как колбаса. Мука как бы спрессовывается и не вываливается. Это безумно вкусно, но мама редко делала. По моему неотвязному нытью «хочу шейку, хочу шейку»…
Вот цимеса мама никогда не делала, а я и не пробовала ни разу. Зато рулеты с маком пекла. Не на праздник пурим, а просто так — говорю же, в нашем доме еврейские праздники не справлялись, да и русские не особо, кроме Нового года…
И еще насчет взаимопроникновения: мама, родившаяся на Украине, готовила борщ так, что муж до сих пор твердит, что моему борщу далеко до тещиного (обидно). Манты меня научила готовить свекровь, которая хоть и русская, а готовила их так, как не всякая узбечка сготовит, а плов — соседка-татарка, у которой муж был узбеком. У нас дома делали и пельмени, и голубцы, и фаршированный перец, причем не только с мясом, а что еще вкуснее — с жареной морковью и луком (это можно было консервировать), и баклажанную икру, и соте из баклажан, и вареники с вишнями — какие вареники! — … и все это при достаточной бедности и дефиците продуктов в магазинах. Но это Ташкент! А рынок на что?! Тем более что фрукты и овощи точно не были дефицитом и в овощные магазины мы заглядывали крайне редко. К тому же там, как ни странно, почти не было овощей и фруктов, разве что потрясающе вкусные овощные консервы.
И все же удивительно: несмотря на все вопли об угнетении, о том, что дружба народов — миф, все дружно готовили блюда свои и соседские и никогда не делили их по национальности…
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Нынче звание хорошей хозяйки совсем из моды вышло. Да и неудивительно при такой суматошной жизни. Одно из двух: либо ты сидишь дома с детьми и ждешь милости от мужа: отдаст зарплату — не отдаст, уйдет к другой — не уйдет, либо делаешь карьеру, и тогда тебе не до хозяйства, что вполне естественно. Тогдашние хозяйки считали (да так и было), что жизнь у них тяжелая: работа, дом, дети… зато день был на словах ненормированный, на деле заканчивался в шесть, а дальше — магазины, дом и так далее. При этом многие, вроде меня, ухитрялись сбегать в магазин в обеденный перерыв, а у меня кроме работы, уроков, обеда и т. д. еще оставалось время пару часиков повязать перед телевизором. Кстати, это только у нас капитализм такой оголтелый. За границей люди до девяти-десяти вечера на работе не засиживаются.
А в довоенные и послевоенные годы…
Заслужить почетное звание хорошей хозяйки было нелегко. И давалось оно во времена коммунальных квартир в больших городах, коммунальных дворов в Ташкенте, густонаселенных одесских и тбилисских двориков и бесчисленных частных домиков по всей стране, когда жизнь соседей ни для кого не была секретом и все всё про всех знали.
Главным качеством хорошей хозяйки (конечно, аккуратность и умение готовить тоже немаловажны: соседка тетя Паша долго наблюдала, как мама месит тесто, после чего одобрительно сказала: молодец ты, в миске ни одного комочка не оставила) была белизна выстиранного белья.
Тогда узорных комплектов просто не было, и белье шилось (чаще всего шилось, а не покупалось) белое. Мама тоже шила белье: простыни, наволочки на пуговицах, которые вечно отлетали, пододеяльники с вырезами-ромбами.
Должна сказать, что стирка была процессом крайне трудоемким и занимала едва ли не целый день. Особенно потому, что жили мы на втором этаже, а воду и газ дали только в шестьдесят первом году прошлого века. Когда мне исполнилось 16 лет.
Тогда стиральных машин и в помине не было, первые появились в пятидесятом, но были далеко не всем по карману и считались роскошью. У нас машина появилась в конце пятидесятых и представляла собой лохань с моторчиком и валиками для выжимания. Но и до войны, и после во всех домах были стиральные доски: действительно довольно толстые доски на двух ножках и с ручкой-дугой сверху. К доске крепился алюминиевый рифленый лист, на котором и терли белье, чтобы сохранить руки. Ванн тоже не было, были тазики, у нас — моя детская жестяная ванночка. В ней замачивали белье накануне стирки. Стиральных порошков тоже не было. Первый советский порошок «Новость» появился в 1953 году, а до того хозяйственное (у нас говорили «стиральное») мыло натирали на терке и в нем замачивали белье. Почему-то многие употребляли для замачивания конторский клей, и мама тоже. Потом были «Эра», «Лотос», «Астра», «Луч» и т. д. В Ташкенте считалось большой удачей купить индийский порошок «Дарья» (это не имя, а «река» на хинди).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
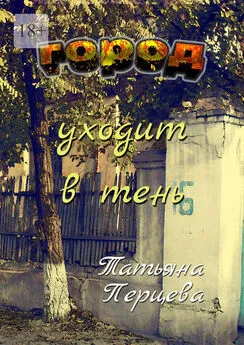
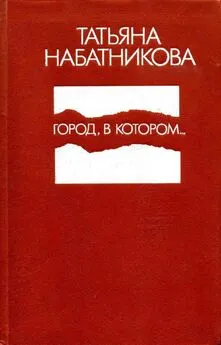

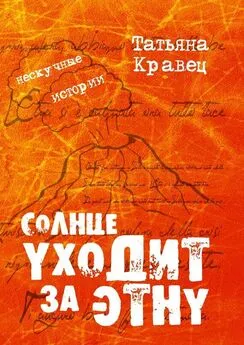
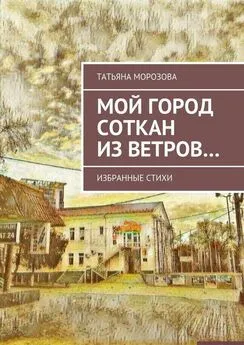
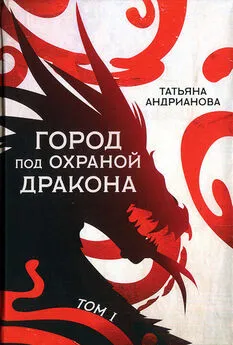
![Татьяна Русакова - Город, которого нет [Фантастическая повесть]](/books/1078605/tatyana-rusakova-gorod-kotorogo-net-fantastichesk.webp)
![Татьяна Гуркало - Город для хранящего [СИ]](/books/1099950/tatyana-gurkalo-gorod-dlya-hranyachego-si.webp)