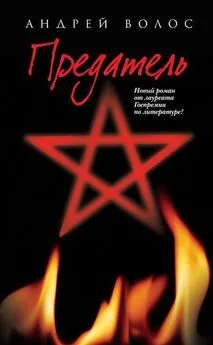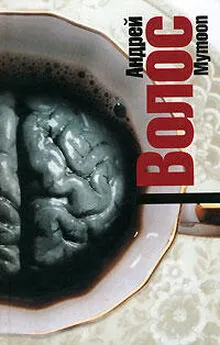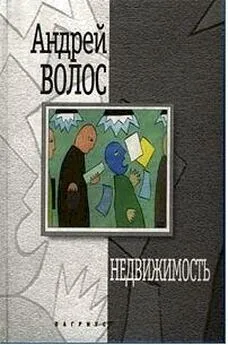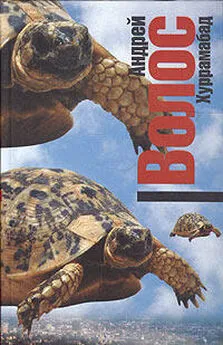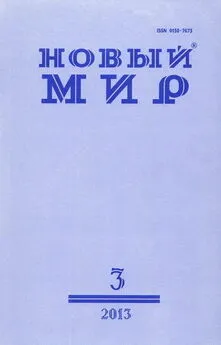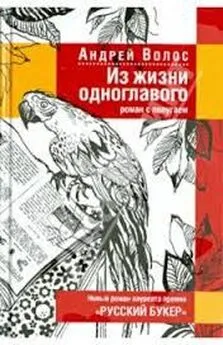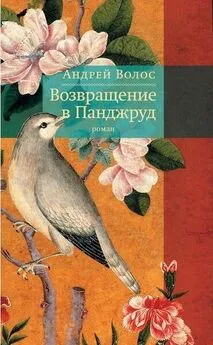Андрей Волос - Предатель
- Название:Предатель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-50485-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Волос - Предатель краткое содержание
В центре нового романа Андрея Волоса — судьбы двух необычных людей: Герман Бронников — талантливый литератор, но на дворе середина 1980-х и за свободомыслие герой лишается всего. Работы, членства в Союзе писателей, теряет друзей — или тех, кого он считал таковыми. Однако у Бронникова остается его «тайная» радость: устроившись на должность консьержа, он пишет роман о последнем настоящем советском тамплиере — выдающемся ученом Игоре Шегаеве. Прошедший через психушку и репрессированный по статье, Шегаев отбывает наказание в лагере на севере России. Кафкианская атмосфера романа усиливается тем, что по профессии Шегаев — землемер. Как тот самый Землемер К. из «Замка» Франца Кафки.
Судьбы Бронникова и Шегаева переплетаются, времена — как в зеркале — смотрят друг в друга, и кажется, что «Предатель» написан о нашей современности.
«Предатель» — роман не «модный», написанный не на потеху дня, а для глубоких размышлений. Новый роман Волоса вобрал в себя опыт Варлама Шаламова и Даниила Андреева и будет интересен самому широкому кругу читателей.
Предатель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В дверь позвонили.
— Шегаевы! — сказал Бронников, поднимаясь. — Садимся!
Однако Наталья Владимировна направилась прямиком на кухню «к девочкам» — пощебетать под предлогом резки и раскладывания курника; к мужчинам присоединился только Игорь Иванович — церемонно пожал всем руки, сел, не отказался от коньяку, а возле рюмки положил свою почернелую трубку, в которой последние пятнадцать лет не было ни крошки табака.
Запнувшись было, разговор выправился и пошел дальше: успели сойтись на том, что интеллигенция, к рядам которой несомненно относятся философы, не может принять навязываемые ей формулы и догмы официальной идеологии; но принимать их все же приходится (поскольку в противном случае субъект не может быть не только философом, но даже и человеком умственного труда); для того же, чтобы примирить желание и необходимость, выдумываются такие финты, как диалектическая логика, которая в итоге предписывает субъекту не столько как он должен мыслить, сколько что он должен мыслить…
— Ну да, — согласился Юрец. — И правильно. В конце концов, свобода есть осознанная необходимость, а не, скажем, хрен собачий. Если ты являешься диалектическим философом, то имеешь полное право воспринимать покорность идеологии как результат своего свободного философского творчества.
— Или даже обязан, — вставил Бронников.
— Соблазн велик, — вздохнул Шегаев.
— Вот: соблазн! — подхватил Юрец. — Истинный соблазн: дьявольский! Вот мы живем тут и сейчас, и нам говорят, что наступили чудные времена: почем зря не убивают, массово не расстреливают, и в целом жизнь прекрасна… Но смотри: в поисках хоть какого-нибудь оправдания своей прекрасной жизни люди готовы узлом завязаться! наизнанку вывернуться! И вовсе не последние люди — мудрецы! умники!.. Это каким же должно быть давление на человека, чтобы он сам рвался свои мозги свихнуть?!
Тут заглянула Кира, увидела бутылку, рюмки, возмутилась, что они бессовестно пьянствуют, в то время как закабаленные женщины вечно бьются у корыта; ну и, конечно, не дали договорить: сели, разлили, загомонили… Закрутился Новый год, завертелся!
— Признавайтесь, кто что хочет в старом году оставить? — спросила Наталья Владимировна, пригубив рюмку. Она была в глухом черном платье с кружевами, рукава с кружевными же фонарями, пышные седые волосы с фиолетовым отливом подчеркивали свежий румянец. — Кто напроказничал?
— Леша, например, хочет не хочет, а беззаботное детство оставляет, — вздохнула Кира. — Осенью в третий класс…
— Эх, мама! — горестно воскликнул Алексей. — Аттестат-то дают в восьмом!
Игорь Иванович усмехнулся и потрепал его по вихрам.
— Не печалься. Оглянуться не успеешь, как и аттестат получишь.
— Я бы много чего пооставлял, — сообщил Юрец. — Как там? И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Хоть и неудачный стишок, а кое-что отражает.
Повисла пауза.
— Что — неудачный стишок? — изумился Бронников, когда к нему вернулся дар речи. — «Когда для смертного умолкнет шумный день…» — неудачный стишок?!
— А разве удачный? — Юрец пожал плечами. — Пафосный, не спорю. Но в целом стихотворение слабое. Вообще, такое чувство, что другой человек писал.
Игорь Иванович заинтересованно хмыкнул. Бронников снова немо разевал рот.
— Вот тебе раз, — усмехнулась Кира. — Покушаешься?
— Мои покушения Александру Сергеевичу не повредят, — сказал Юрец. — Масштаб не тот… Толстой виноват. Рассыпался в горячих похвалах. Близким тыкал: глядите, мол, какая чудная пиеса!
— Мнение авторитетное, — заметил Шегаев, пожав плечами.
— Разве? Старик в поэзии не смыслил ни аза. И в оценках исходил из своих морализаторских настроений. Вот с его легкой руки и пошло: гениально, гениально! А на самом деле — ни черта не гениально. Так себе стишок.
— Нет, подожди! — закричал Бронников. — Ты на чем, собственно говоря, основываешься?!
— А ты обратись к тексту, сам увидишь.
— Что я должен увидеть?! Я наизусть помню!
— Не знаю, что ты помнишь. Если помнишь, то согласись, что стихотворение в целом неудобопроизносимое. Как на телеге по булыганам. В каждой строке огрехи — повторы, столкновения… разве это Пушкин?
Когда для смертного умолкнет шумный день…
Уже это «когда для» дорогого стоит. И почему именно «для смертного умолкнет»? А для бессмертного — не умолкнет? Или имеется в виду, что смертный — это кто умрет в будущем? а если уже умер, то к смертным не относится, потому что дважды не умирают? То есть для мертвого день умолк раньше, в момент смерти? Как это понимать? В общем, этот «смертный» совершенно случайно сюда затесался, автор цапнул первое попавшееся слово…
И на немые стогны града…
Опять дурное схождение — «И на немые», «и-на-не».
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда…
— разве это Пушкин? Тяжело, громоздко! Славная пушкинская легкость — где она?
— Я прежде не обращала внимания, — несмело согласилась Наталья Владимировна. — А ведь на самом деле тяжеловато.
— Только совсем глухой человек может не понимать, что эта тяжесть — художественный прием! — воскликнул Бронников.
— Гера, Юрочка, ну что вы сцепились как не знаю кто, — попыталась вклиниться Кира. — Уймитесь. Новый год все-таки…
— Тяжеловато, потому что человек самое нутро свое перед нами выворачивает! Наизнанку! Тяжеловесность здесь — художественное средство! Он доказывает тебе: нельзя легко говорить о тяжелом!
— Ну да, — поддержал Артем. — Ведь речь-то о серьезном.
— А, скажем, в «Пророке» — не о серьезном? — полыхнул Юрец. — Уж куда серьезней! О призвании поэта! О судьбе! О том, на что жизнь его должна быть положена! Но в «Пророке» каждая строчка звенит! А здесь — язык сломаешь! «Наляжет тень» — это что? Почему не «ляжет тень»? Лишний слог понадобился? А сон — как награда дневных трудов? — это что? Извращенное представление и о трудах, и о сне.
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья…
Вяло все, тягостно — и не потому, что автор пишет о тягостном, а потому что тягостно пишет!
— Насчет «Пророка» я бы так не горячился, — заметил Игорь Иванович. — В «Пророке» речь идет о будущем. В «Пророке» герой готовится к свершению. А здесь другое: он уже все свершил. И, похоже, итоги его свершений крайне неутешительны. Так свершил, что глаза б его не глядели…
— Все равно слишком коряво! Да вот хотя бы рассуждение о времени чего стоит: «В то время… влачатся часы!..» Как будто часы — не время! А дальше:
Живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья! —
Тут уж не только от Пушкина далеко, но даже и от русского языка далеко! Конечно, автор пытается с помощью инверсии навести тень на плетень… неопытный читатель может проглотить. Но если прямо сказать, так и повторять не захочешь: во мне горят живей угрызения сердечной змеи! Бр-р-р! Угрызения — горят! Горят — живей! Разве это — Пушкин?!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: