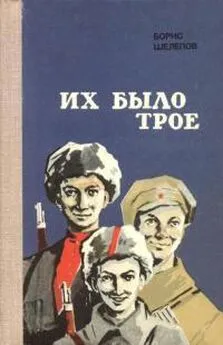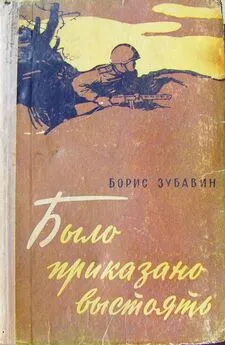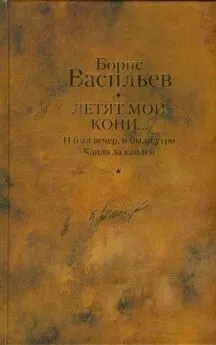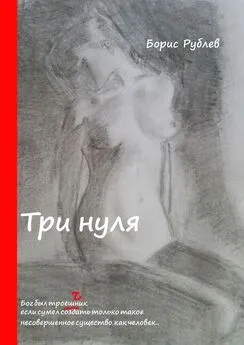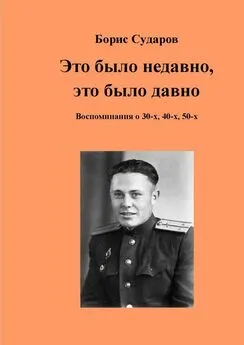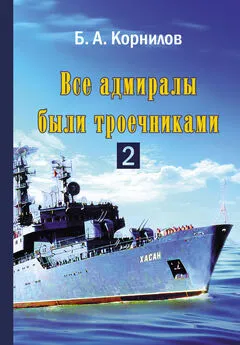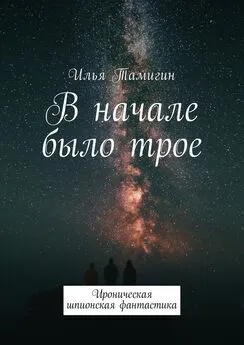Борис Шелепов - Их было трое
- Название:Их было трое
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ир
- Год:1969
- Город:Орджоникидзе
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Шелепов - Их было трое краткое содержание
Их было трое - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вы просто не знаете себя! — невольно воскликнул Коста.
— Не подражайте льстивым лгунам с аккуратными проборами… Расскажите лучше о себе.
— Я расскажу, Оля, о своей родине.
…Далеко, в верховьях Алагирского ущелья, у самых ледников Главного Кавказского хребта, там, где соединяются две горные реки — Заки-Дон и Ля-Дон, стоит аул Нар. Здесь родился Коста, здесь прошли его детские годы, впервые запечатлелись в его сердце картины народной нищеты.
Но не убогим, а сурово неприступным вставал сейчас перед глазами Коста родной аул.
— Сакли осетин, словно гнезда ласточек, прилепились в складках утеса. Бушующий поток на каменном дне ущелья с высоты кажется серебряной нитью. Из глубокой теснины до самых облаков поднимаются мшистые стены скал… Часто убегал я от злой мачехи Кузьмиде и забирался на кручу, откуда хорошо была видна часть Осетии: ее селения, быстрые реки, стада овец на склонах гор, маленькие квадраты кукурузных полей.
Ольга слушала с интересом.
— Однажды летом я ушел далеко от аула, поднялся к самым ледникам и впервые увидел джук-тура.
— А кто это?
— Дикий баран. Он гордо стоял у самого обрыва скалы, чуть склонив круторогую голову и глядя в туманную даль. Там, в вышине, было морозно, джук-тур заиндевел и в багровых лучах солнца горел, как жемчуг. Неповторимая картина! Часто вижу ее перед собой: весь Кавказ стелется цветистым ковром у ног, дымят вдали сакли горцев, благоухают цветущие яблони в садах. И на все это смотрит с поднебесной выси гордый, задумчивый джук-тур… Когда-нибудь я напишу об этом в стихах…
— Воображаю, как красив Кавказ с такой головокружительной высоты!
— Да, с высоты… Но если спуститься вниз, в селение, войти в первую саклю, то увидишь оборванных детей, вдову с бледным и печальным лицом, еще хранящим черты былой красоты. Над очагом висит черный котел. Что варит в нем бедная мать сирот? Она задумала обмануть малышей. Устанут они ждать ужина и уснут под стоны ветра в ущелье, а вдова долго будет сидеть у потухающего очага, над которым варились камни. Вот моя Осетия, та, что ношу в душе своей…
Не видел Хетагуров затуманившихся слезами глаз девушки, продолжал рассказ.
…Мать Коста, Мария Гавриловна, умерла вскоре после его рождения. Отец, Леван Елизбарович, честный человек, праведник, женился на грубой и черствой женщине Кузьмиде Сухиевой, которая невзлюбила маленького Коста, запрещала ему даже такое «баловство», как рисование углем на камнях. Мальчик находил убежище в горах или у кормилицы Чендзе, своей второй матери, ласковой женщины с добрыми руками. Она познакомила маленького Коста с Осетией, краем суровой красоты.
Многое узнал Коста и от отца, который не был безучастным к судьбам своего народа. Весной 1870 года Леван Хетагуров переселился на Западный Кавказ, в верховья Кубани, к горам Карачая, и основал там селение Лаба, названное впоследствии Георгиевско-Осетинским.
Оттуда и уехал Коста вместе с другими своими земляками в Ставропольскую губернскую гимназию.
В гимназии учитель рисования, бывший воспитанник Академии художеств, В. И. Смирнов обратил внимание на рисунки Хетагурова и послал их на Всероссийскую выставку художественных работ учащихся средних школ. В юношеские годы Коста написал первую картину «Знамя с горным орлом» и портрет отца. Смирнов был восхищен работами. Перед Хетагуровым открылась дорога в Петербург, в Академию художеств — за него ходатайствовал директор гимназии.
— Вот и весь мой несложный путь, — закончил Коста. — А потом случай, о котором, вероятно, вам рассказывал Владимир Владимирович, привел меня в ваш дом. Всему причиной был раззолоченный кубачинский кинжал, подарок отца. Я не фаталист, но помню, когда подумал, брать или не брать кинжал, какой-то внутренний голос подсказал мне: «Возьми». Поступи я иначе, возможно, мы с вами никогда бы не увиделись.
— Это судьба… — тихо проговорила Ольга и прикоснулась пальцем к газырю черкески. Коста подхватил руку девушки и поцеловал. Чьи-то шаги послышались за дверью. Ольга поспешно взяла с полки «Орлеанскую деву» и начала громко читать с первой попавшейся фразы.
С этого мгновенья оба почувствовали себя заговорщиками.
4
Новый, 1884 год, Коста, Андукапар и юнкер Кубатиев встречали в доме инженера Ранцова. Гостей собралось так много, что новогодний стол протянулся из одного зала в другой. Елку пришлось вынести в библиотеку, и она стояла там, как осетинская невеста.
В перерывах между торжественными тостами за «чудесный», «знаменательный», «счастливый» новый год Хетагуров предавался невеселым размышлениям. Удержится ли он в академии в этом году? Стипендия прекратилась. Отец иногда присылал в письмах деньги, но их не хватало даже на чай с сахаром, на краски и холст. Если бы не братская поддержка Андукапара, пришлось бы заняться ремеслом богомаза в одной из многочисленных мастерских иконописи. А как горячо убеждал Павел Петрович Чистяков своих любимых учеников (в их числе был и Хетагуров) бояться соблазна мастеровщины, беречь свой талант, чтобы не покрывался он ржавчиной ремесла.
— Как жаль, господа, — говорил между тем за новогодним столом Кубатиев, одетый в черкеску с юнкерскими погонами, — как жаль, что здесь нет нашего национального напитка — араки!
Коста шепнул сидящей рядом с ним Ольге: «Сейчас опять зарядит на полчаса о своих предках…»
— Я поднимаю этот бокал, — продолжал юнкер, — в память о тех временах, когда знамена наших доблестных предков-аланов заслоняли солнце и на неприятельскую землю падал мрак вечной ночи порабощения… Так говорил мой мудрый дед Саладдин, когда поднимал турий рог на шумном пиру вернувшихся с битвы баделят. Велики были люди того времени. Знаете ли вы, господа, реку Дон?
— Знаем, знаем, — послышались голоса.
— Так вот, это — осетинская река, ибо слово «дон» означает по-нашему «вода»… Я вижу ехидную улыбку одного из сидящих здесь моих земляков, незаслуженно носящего в корне своей фамилии имя святого Хетага. Пусть его улыбка останется прощенной по случаю Нового года…
— Гэспэда! — перебил Кубатиева лейтенант береговой службы Клюгенау, недавно ставший зятем Ранцовых. Его мутные навыкате глаза покраснели и ошалело глядели прямо перед собой. — Выпьем, гэспэда, за нашего обожаемого монарха! За него мы готовы отдать капля за каплей всю русскую кровь…
— Правильно! Всю русскую кровь! Ура! — крикнул Кубатиев, одним духом выпил вино и хлопнул об пол хрустальный бокал. Однако примеру его никто не последовал.
Клементина Эрнестовна, раскрасневшаяся от ликеров, поднялась и торжественно объявила о помолвке своей дочери Ольги с Титом Титовичем Овцыным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: