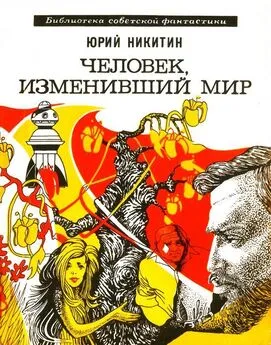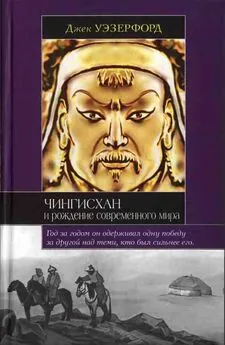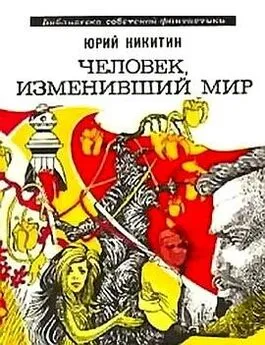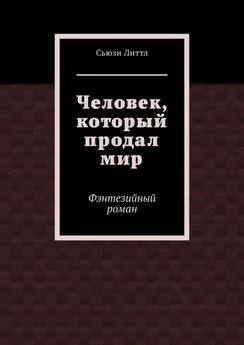Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Название:Чингисхан. Человек, завоевавший мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-095186-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнк Маклинн - Чингисхан. Человек, завоевавший мир краткое содержание
Чингисхан. Человек, завоевавший мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тенгри на Небесах помогала Этуген, богиня земли и плодородия. Свято почитался также бог земли Натигай, особо отмеченный Марко Поло, оберегавший здоровье каждой семьи и сохранявший стада, отары и табуны. Монголы поклонялись и богу солнца: ему посвящалось грандиозное празднество — День Красного Диска — устраивавшееся на шестнадцатый день первого летнего месяца. Созвездие Большой Медведицы играло роль божества, определяющего судьбу каждого человека. Обеспечивать плодородие и плодовитость надлежало еще одному богу, так называемому «Белому старцу». Он действительно изображался белобородым стариком в белых одеяниях, опирающимся на посох с навершием в виде дракона. Этот образ особенно полюбился буддистам до такой степени, что они инкорпорировали его в собственную религию, сочинив истории о встречах Будды и Белого старца [2553] N. Poppe, 'Zum Feuerkultus bei den Mongolen,' Asia Minor 2 (1925) pp. 130–145 (at p. 141).
. Большой популярностью пользовался бог огня, который, казалось, мог откликнуться на любую просьбу. К нему обращались за помощью по всем насущным проблемам бытия, просили благословения по случаю рождения ребенка, долголетия, славы, физических сил, богатства, защиты от жары и мороза, от нанесения телесных повреждений деревом, железом и (парадокс!) огнем. Богу огня адресовались моления с просьбами уберечь от болезней, волков и воров, а домашний скот — от ящура и падежа, сохранить в хорошем здравии домашний скот, лошадей, верблюдов, быков, меринов, кобыл, жеребцов, собак и прочих представителей домашнего животного мира; аналогичные просьбы касались здоровья и трудоспособности рабов [2554] Rachewiltz, Commentary pp. 329–331; Heissig, Religions pp. 84–90.
. Наконец, у монголов тоже были свои «ангелы-хранители» — божества в образе вооруженных всадников, называвшиеся «сульде»: им надлежало оберегать великих ханов и аристократов, чтобы те, в свою очередь, могли исправно исполнять предназначение, установленное Тенгри [2555] Moule & Pelliot, Marco Polo I pp. 199–200; Baldick, Animal and Shaman pp. 95, 104, 108.
.
Если Тенгри и сонм менее значимых богов составляют то, что мы называем трансцендентным компонентом монгольской религии, то ее мистическая составляющая представлена главным образом анимизмом — верованием в одухотворенность не только животных, но и растений, рек, гор, озер, даже ветра и дождя (самое почетное место у тюрков занимал волк, монголы отдавали предпочтение, естественно, коню). Поскольку анимизм предполагает наличие души во всем, что нас окружает, то человек должен ублажать и умиротворять их перед любым важным событием в своей жизни — рождением, бракосочетанием, охотой, смертью, войной. Монголы верили в то, что душа пребывает в крови, а это означало, что вместе с кровью из тела вытекает и душа. По этой причине монголы предпочитали убивать высокородных и высокопоставленных врагов «бескровно», изыскивая иные способы казни: удушали тетивой, ломали хребет или завертывали в ковры и забивали до смерти, волоча по земле конями [2556] P. Pelliot, 'Notes sur le "Turkestan",' T'oung Pao 26 (1929) pp. 113–182 (at p. 133); Yule & Cordier, Marco Polo I p. 257; Moule & Pelliot, Marco Polo p. 257; Heissig, Religions pp. 102–110.
. Особое место в духовной жизни занимали культы родников и горных вершин: вода считалась символом высших магических сил. Поклонение солнцу было одним из самых важных обычаев, но по каким-то неясным причинам монголы ассоциировали солнце с югом и, отдавая дань уважения светилу, вставали на колени и кланялись в сторону юга [2557] Moule & Pelliot, Marco Polo I p. 170.
.
В отличие от богов и богинь, исполнявших определенные функции, анимистические верования чаще всего касались стихий, и обряды обычно совершались самими мирянами (и женщинами). Например, поклоняться земле как божеству можно было и дома, изготовив семейного бога из войлока. Воскурение фимиама, сопровождавшееся молитвой и совершавшееся, вероятно, «мирским проповедником», было наиболее распространенной формой ублажения ветра и гор. Обычный обряд чествования божества заключался в том, чтобы девять раз встать на колени (магическое число!) с непокрытой головой, сняв пояс и обернув им шею [2558] Heissig, Religions pp. 6–7, 46.
.
Поклонение огню сопровождалось более существенными подношениями, например, дарилась баранья лопатка, покрытая топленым маслом. В некоторых районах Монголии жертвоприношение огню было исключительной прерогативой женщин, и оно совершалось на двадцать девятый день последнего месяца года [2559] Dawson, Mongol Mission p. 7.
. Еще одним свидетельством, опровергающим утверждения о монотеизме монгольской религии, может служить тот факт, что в отдельных случаях кочевники, согласно грустному замечанию Карпини, вели себя как идолопоклонники: после заклания животного они подносили в чаше его сердце идолу [2560] Heissig, Religions p. 35.
. Этими идолами могли быть какие угодно изображения — и животных и людей, что антропологи назвали бы зооморфическими и антропоморфическими образами. Места совершения культовых обрядов обозначались каменными пирамидами со столбом в центре. Мирские проповедники — иногда их вольно называют «общинными шаманами» (этой проблеме уделяется неоправданно большое внимание) — произносили молитвы и совершали жертвоприношение, не вытворяя никаких эффектных шаманских трюков вроде полетов в небо или превращения в животных [2561] Hutton, Shamans pp. 47–49; Caroline Humphrey, 'Shamanic Practices and the State in Northern Asia,' in Thomas & Humphrey, Shamanism pp. 191–228 (at p. 208); Humphrey & Onon, Shamans and Elders p. 51.
.
Анимизм как мистический компонент религии служит связующим звеном между трансцендентальностью монгольской фольклорной веры в бога Вечного Синего Неба и приземленной функциональностью шаманизма. И сегодня не прекращаются академические дебаты о предназначении и духовной миссии шаманов, этих странных персонажей, которых в разных культурах называли и знахарями, и колдунами-заклинателями. Некоторые специалисты указывают на неопределенность самого понятия шаманизм, которое отображает попытку объединить разнообразные элементы одного и того же явления, обнаруженного в различных культурах, и требуют для точности всегда оговаривать, о каком шаманизме идет речь — монгольском, африканском, североамериканском или каком-то ином его варианте. Отдельные радикальные эмпирики даже настаивают на том, что и в рамках монгольской культуры необходимо выделять различные типы шаманизма, а также внешаманской религиозной магии [2562] Humphrey, 'Shamanic Practices,' loc. cit. pp. 199–200.
. Некоторые авторы различают «черных» шаманов, впадающих в транс, принимающих образ какого-нибудь животного или взлетающих на небеса, и «белых» шаманов, которые не совершают загадочных деяний, а, подобно западным священникам, выступают в роли посредников между повседневной реальностью и сверхъестественностью, ограничиваясь благословениями людей и домашних животных от имени духов и божеств «верхнего, неземного мира» [2563] Dawson, Mongol Mission p. 12; Jackson & Morgan, Rubruck p. 72; Jean-Paul Roux, 'Tangri: Essai sur le ciel-dieu des peuples altaiques,' Revue de I'Histoire des Religions 149 (1956) pp. 49–82, 197–230; 150 (1956) pp. 27–54, 173–212.
.
Интервал:
Закладка:
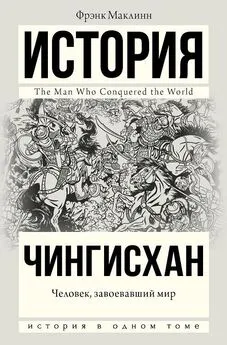


![Ксения Чепикова - Человек, научивший мир читать [История Великой информационной революции]](/books/1059757/kseniya-chepikova-chelovek-nauchivshij-mir-chitat-ist.webp)