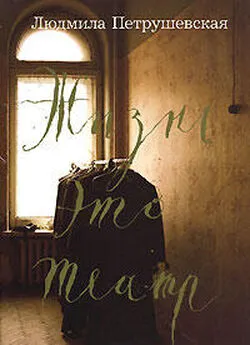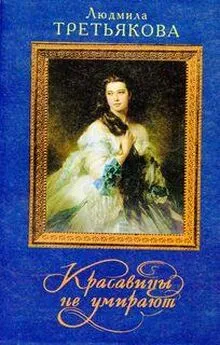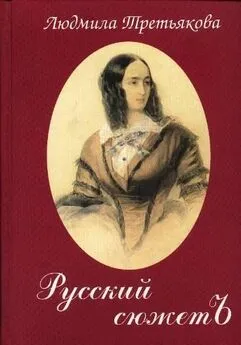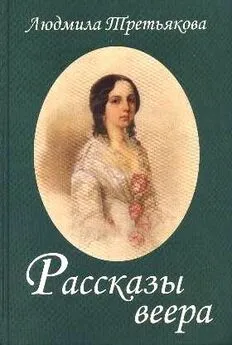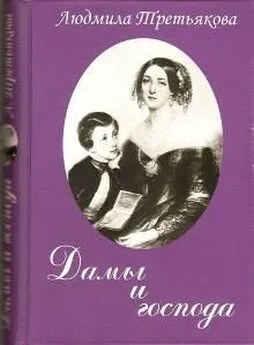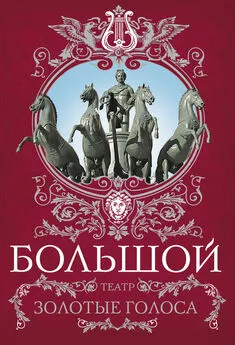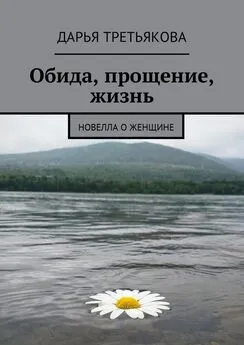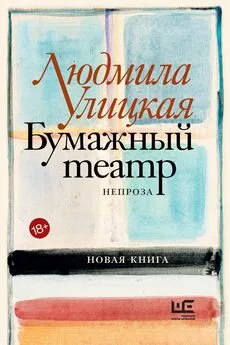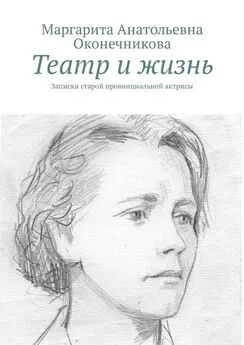Людмила Третьякова - Театр для крепостной актрисы
- Название:Театр для крепостной актрисы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Третьякова - Театр для крепостной актрисы краткое содержание
Тема всех ее книг одна – любовь, поскольку, по мнению автора, «…сами по себе не отдавая в этом отчета, мы только и живем любовью: счастливой и несчастной, супружеской, родительской и странной, невесть откуда взявшейся, - к тому человеку, кто совсем недавно был чужим и незнакомым». Любовь, романы, жизнь выдающихся женщин прошлого - знатных и не очень, но оставивших свой след в истории, едва восстановимый теперь по каким-то личным архивам, записочкам, мемуарам, свидетельствам…
"Театр для крепостной актрисы рассказывает о жизни Полины Жемчуговой, в замужестве - графини Шереметьевой. Повесть из сборника "Мои старинные подруги".
Театр для крепостной актрисы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
...Вдруг, оглядывая себя в большом зеркале, Параша увидела, как дверь в костюмерную отворилась и вошел граф, а следом за ним седой старик дворецкий с большой сафьяновой шкатулкой в руках.. По знаку графа он поставил ее на консольку возле зеркала, и тотчас все бесшумно удалились.
— Что, ваше сиятельство? Что-то случилось? — обернулась Параша, удивленная внезапным появлением графа. Разве не должен он быть сейчас возле императрицы? Почему смотрит на нее с загадочной улыбкой? Ах, страх-то какой впереди, не пришел еще час радоваться.
— Да вот, сущая безделица, Параша... Позабылось в суете великой. Дай-ка я подправлю платье твое, хотя господин художник отменно постарался. Надеюсь, и тебе будет весьма приятно, если послужу тебе вместо девушек.
Он поднял крышку сафьяновой шкатулки. Пламень свечей осветил лежавшие там драгоценности и вспыхнул искрами на гранях фамильных шереметевских бриллиантов.
Граф сам наряжал безмолвно стоявшую Парашу, застегивая замки старинных браслетов, унизывая ее пальцы кольцами.
— Серьги сама выберешь... Чтобы и лицу удобны, и не тяжелые были, госпожа Элиана.
Холод тяжелого ожерелья, охватившего шею, заставил Парашу вздрогнуть. Но золото быстро согрелось теплом кожи. Параша подняла на графа глаза и прочитала в них восхищение. Уверенность и торжество поднялись в ней, мгновенно изгнав волнение, мучившее ее до дрожи в ногах. Боже милостивый, как спокойно и хорошо ей! Зачем сейчас на сцену, на сотни глаз? К чему тщеславное стремление покорить зрителей, заставить их плакать в темной пропасти зала?
«Закон мой и все должности состоят в том, чтобы любить», — говорит ее Элиана. «Чтобы любить», — мысленно повторила Параша.
— Пора!.. — сказал граф. Послышались первые звуки скрипок. Занавес поднялся.
...Юная самнитянка Элиана полюбила храброго воина Пар- менона. Но у влюбленных нет надежды на брак: здесь все решают старейшины. Проходит слух, что в тяжелых боях с римлянами какой-то храбрец спас жизнь военачальника самнитов и воодушевил воинов. Все хотят знать: кто этот герой?
И вот на боевой колеснице с копьем в руке въезжает воин. Ветер победы развевает перья на его шлеме. Все узнают в герое, спасшем народ, Элиану. Она завоевала себе право на свободный выбор жениха...
Как вестница победы не только над врагами, но и над косностью и жестокими законами людей в тот вечер появилась Жемчугова перед публикой. Параша любила сама и всю силу своего чувства вложила в образ своей героини. Не покориться силе этого чувства было невозможно.
Досужие языки уже перестали обсуждать невиданную роскошь сценического костюма «крепостной девки». Предубеждение потонуло в волнах искреннего восхищения. Публика была потрясена. Зал грохотал, на сцену летели кошельки с деньгами, шквал аплодисментов сотрясал кусковский театр, заставляя, кажется, волноваться даже бесстрастных муз, изображенных на потолке зала.
...Екатерина, как известно, не была поклонницей музыкального искусства, но то, что она увидела, произвело на нее большое впечатление. Она сказала, что «это был самый великолепный и приятный спектакль» из всех, какие ей когда-либо устраивали. Похоже, сердце императрицы действительно было тронуто: государыня пожелала «представить пред собою» актеров и «пожаловать к руке». Особенно восхитила Екатерину Жемчугова. Секретарь императрицы Храповицкий отметил, что государыня, обычно дарившая в таких случаях перстень с бриллиантами, повелела изыскать нечто оригинальное, дабы по заслугам наградить девятнадцатилетнюю кусковскую богиню.

Павел Петрович, будущий император, товарищ юности
графа Шереметева. Он, большой любитель музыки, отдавал
должное необычайному таланту Параши Жемчуговой.
Выше монаршей похвалы награды не могло и быть. Теперь никто не взялся бы оспаривать первого места Параши на графской сцене. Приходилось согласиться с непреложным фактом: она признанный талант, большая артистка.
Но как трудно было смириться с тем, что молоденькая простолюдинка, каких-нибудь десять лет назад приехавшая в кусковские кущи на телеге и в лапотках, покорила сердце первого жениха в России!
Вскоре после посещения Екатериной шереметевского театра, 30 ноября 1788 года, старый граф Петр Борисович скончался. Его похоронили в усыпальнице Знаменской церкви Новоспасского монастыря. Шереметевы всегда возглавляли список крупнейших российских богачей.
Его сын, Николаи Петрович, вступил в права наследования. То, что принадлежало Шереметевым, даже людям екатерининской богатой России казалось фантастическим. В немалой степени это случилось потому, что целые сто пятьдесят лет у Шереметевых, как и у Юсуповых, в силу разных, в том числе и трагических, причин оставался только один наследник. Богатство, таким образом, не дробилось. Единственным хозяином немереного шереметевского состояния был и Николай Петрович.
Считалось, что ему досталось «такое вотчинное богатство, какого не было в России ни прежде, ни после; так число крестьян в имениях графов Шереметевых простиралось до 160 000 душ, не говоря уже о том, что многие из шереметевских крестьян были сами по себе не только зажиточны, но и чрезвычайно богаты, и сколько ни наживались около графов Шереметевых их управляющие и поверенные, но все-таки состояние их было всегда громадно».
О нем рассказывали легенды, которые никого не могли оставить равнодушным.
В1834—1833 годах Пушкин написал несколько набросков к роману под условным названием «Русский Пелам», герой которого говорит следующее: «Отец имел пять тысяч душ. Следственно, был из тех дворян, которых покойный граф Ш<���ереметев> (речь идет, видимо, о Николае Петровиче. Л.Т.)называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Ш<���ереметева>, хотя был ровно в 20 раз беднее».
Здесь, конечно, перебор. Жить не хуже графа Шереметева в имущественном смысле было едва ли возможно, если только не задаться целью оставить после себя фантастические долги.
...Крепостная оброчная душа могла приносить своему владельцу в среднем 15 рублей в год. Таким образом, Шереметев получал ежегодно прибыли в полтора миллиона — астрономическая сумма! К примеру, считавшийся исключительно богатым граф Алексей Орлов в год имел доход в двести тысяч.
И конечно, немудрено, что из года в год за Николаем Петровичем наблюдали глаза, острые и внимательные. Иногда, садясь в карету, граф чувствовал, будто кто-то легонько кидал ему в спину камешек. И мог заключить любое пари — ему смотрели вслед все те же цепкие глаза. Они принадлежали не одной, не двум, а десяткам разных женщин: молоденьким и в возрасте, то есть невестам и их матушкам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: