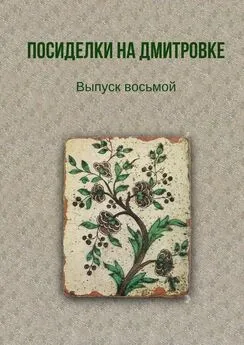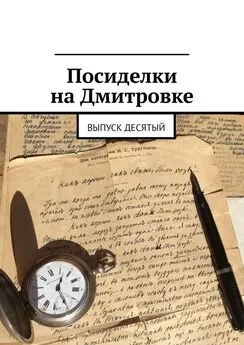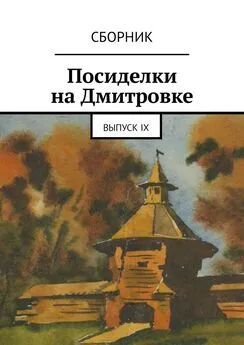Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот теперь — его жена. Вдова. До этого я видел ее очень недолго — она мельком заглянула в комнату, где мы разговаривали. Удивлялся: тоже запомнила меня.
Первый раз пришел к ней один, потом с женой, потом, смею думать, мы надолго стали ее желанными гостями — вплоть до последних дней ее жизни. Если не с кем было оставить маленькую дочку, брали с собой. Ольга Густавовна была рада этому, стала чаще улыбаться и даже шила для ее кукол платья.
Вновь увидел небольшую квартиру в Лаврушинском, напоминавшую вагон: крохотные комнатки-купе и длинный коридор вдоль них. В дальней комнате жила маленькая, сгорбленная седая женщина, сестра О. Г., Лидия Густавовна, вдова Багрицкого, отсидевшая свое в лагере, а потом отпущенная на вольное поселение. В общей сложности — семнадцать хрестоматийных лет. (Ольга Густавовна рассказывала, что в небольшом казахстанском городке, где ей разрешили жить, была улица Багрицкого). Она почти не выходила из своей комнаты, но к ней часто приходили гости, я видел их через открытую дверь. О. Г. называла: «Вот Андрей Синявский». В другой раз, кивая на стремительную женщину с взлохмаченными волосами: «Люся. Они вместе делают книгу о Севе». Сева — сын, Всеволод Багрицкий, тоже поэт, погибший на войне. Люся — его невеста, Елена Боннер, позже ставшая женой Андрея Сахарова. Ольга Густавовна очень нежно говорила о сестре, заботилась о ней, а еще о матери Олеши, Ольге Владиславовне, которую я тоже видел у нее. Большая, грузная молчаливая старуха, похожая на комод… Такой запомнилась. Ольга Густавовна взяла ее к себе уже после смерти мужа.
Я дважды приходил к Юрию Карловичу. Уже во время первого разговора понимал, что на меня обрушилось нечто громадное, небывалое, некий незаслуженный дар, а потому, выйдя на улицу, помчался на Главтелеграф. Самописки (как называли тогда авторучки) с собой не было, а там всегда лежали простые школьные ручки с перьями №86, и я записал, все, что услышал. Ко второй встрече я уже подготовился. Какое счастье, что записал беседу! Понятно, это не был диалог — в основном, мои вопросы и размышления Юрия Карловича. И вот теперь могу поделиться полученным даром с его женой. Это было тоже замечательно: кто мог полнее разделить мое потрясение?
Слушая меня, Ольга Густавовна вдруг сказала: «Напишите об этом». Первая — небольшая заметка — появилась в «Литературе и жизни», а через несколько лет, уже более полная, в сборнике «Воспоминания о Юрии Олеше». Потом несколько раз я встречал ссылки на свою статью, понятно, не из-за ее достоинств, просто выяснилось, что я был последним, кто встречался с Юрием Карловичем и записал его слова. Ни его статей, ни интервью с ним не появлялось. Создавалось впечатление — видимо, оправданное, — что он был не очень интересен ни критикам, ни читателям.
С тех пор прошло много лет, и недавно, разбирая свои архивы, вновь наткнулся на ту записную книжку в обычном для тех лет черном дерматиновом переплете, где, кстати, после всех записей была наклеена фотография Олеши из «Литературки», обведенная черной рамкой. Господи, как мало вошло в книгу «Воспоминаний»! Сам себя ограничивал: это имя нельзя называть, слишком популярно, а такого-то вообще не надо трогать. В общем, оказался хорошим самоцензором. Нет, так нельзя, надо снова вернуться к воспоминаниям.
Но прежде, чем расскажу о беседах, одно незабываемое впечатление. И тогда, и сейчас самым поразительным и необъяснимым для меня остается тот факт, что все, что я записал, было сказано в относительно короткое время. Хотя Юрий Карлович сам пригласил меня, я не мог себе позволить долго находиться у него. Он плохо чувствовал себя, полулежал на тахте. Отнимите от этих недолгих минут время для знакомства, чтение моих подражательных заметок, останется совсем мало. И столько сказать! Позже, из других воспоминаний, узнал, что это мое впечатление не было случайным, таким он был всегда. Вот, что писал Эммануил Казакевич, близкий друг Юрия Карловича. «Обыкновенного житейского разговора Юрий Олеша вовсе не умел вести. Ход его мыслей был всегда оригинален, реплики неожиданны, ассоциации — очень богаты, переходы — остры».
И снова передо мной дешевая дерматиновая книжка, которую я не раскрывал более полувека. Теперь она стала бесценной.
«Я задумал написать такую книгу, просто пересказать десять классических сюжетов, „Фауста“, например, „Ад“. Я хотел бы привлечь к ним читателя. Вот Данте. У нас ведь совсем его не знают. Поэт, спускаясь в ад, стесняется собственной тени, потому что люди, которые его окружают, даже спутник его — Вергилий, сами тени. Ему стыдно, что он человек, а они бесплотны. Какая великолепная, какая мощная фантазия!»
К автору «Божественной комедии» Олеша вернулся еще раз, когда я задал популярный в то время вопрос: «Какую книгу вы бы взяли на необитаемый остров?» и привел остроумный ответ на него Честертона: «Как построить лодку». Последние слова вызвали недовольство: «Шуточки в духе Шоу. Не люблю». Его ответ: «Я взял бы Данте».
Слушая Юрия Карловича, я все время помнил о его «Избранном». Там тоже много о прочитанном. Иногда просто пересказы произведений. Но он так говорит о литературе, столь точно выделяет суть и так искренне восхищается, что боишься взять в руки оригинал — а вдруг там хуже? Олеша-читатель — особая, по-своему исключительная тема. Он говорил о любой, даже классической книге так, как будто она лежала перед ним в рукописи и, если он был не доволен, мог что-то поправить, изменить в тексте.
Вот о Достоевском:
— Очень странный писатель. Непонятно, почему он всем нравится. Он может вызвать протест. Генерал Иволгин что-то выдумывает. Входит Настасья Филипповна, и дочь Иволгина краснеет. Почему? Это же прекрасно, когда так выдумывают. Не понимаю. У Достоевского были превратные понятия о самолюбии.
Как не пожалеть, что Олеше была недоступна Библия! Вполне мог бы написать: «Бог был неправ…» Почему нет? Библия, Книга Книг с ее необъяснимо острыми психологическими наблюдениями, мощными характерами и детально выписанными трагическими подробностями — в конечном счете текст, а любой текст, даже сакральный, состоит из слов. Слова — материал, ремесло, мастерская, в которой Олеша был своим, он знал, как обращаются с материалом. «Пусть даже это будет мнение великих писателей — Льва Толстого, Пушкина и т. д., тут для меня нового нет, я это все знаю и сам, тут я не в школе, а если и в школе, то среди учителей». Многие ли так, как Олеша, могут сказать о себе?
Закончил о Достоевском так:
— Я не самолюбив. Пожалуйста, назовите хоть вором. Но если скажут: у Олеши не тот эпитет, будет обидно. Когда я нахожу его, предмет больше для меня не существует.
Ему хочется знать нынешние вкусы. Я — случайный гость — был представителем молодого, незнакомого ему поколения и этим, видимо, для него любопытен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: