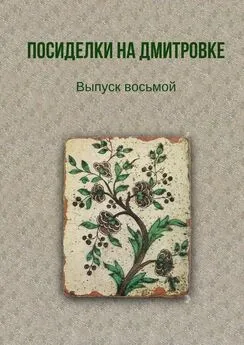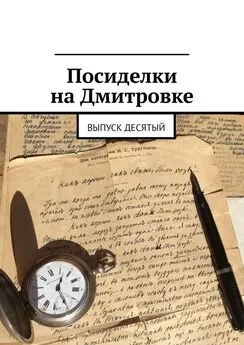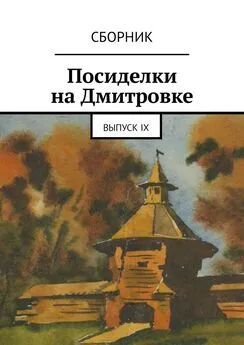Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же былая слава стала к нему возвращаться. Случилось это скорее, чем можно было предполагать. Чем я мог предположить. Зная, как это важно для Ольги Густавовны, и гордый, понятно, сам, каждый раз приносил ей известие: вот в такой газете сказано о Юрии Карловиче, в такой книге… Пройдет не так много времени, и она мягко остановит меня: «Не надо больше об этом». Уже в июне 1962 года в ЦДЛ, через два года после смерти Олеши (не круглая дата!) прошел первый вечер его памяти. То, что Олеша останется в литературе навсегда, что его назовут классиком советской литературы, стало непреложным фактом. Ольга Густавовна могла быть спокойной. Сейчас его имя входит во все литературные энциклопедии мира.
Но вернусь к составлению книги. Итак, сгруппировать записи по темам — это напрашивалось само собой. Три части — казалось: все логично, другого варианта быть не может. Но какой порядок должен быть внутри каждой из частей? Я перекладывал, перемешивал листки десятки раз, пытаясь найти какую-то гармонию, услышать мелодию, которая, возможно, звучала в душе автора, угадать ход его мысли. Но то, что я считал находкой, гармоничным переходом, назавтра казалось мне наивным и беспомощным сближением. Тем не менее, на каком-то варианте остановился и даже попытался обосновать его, написав большую «докладную записку» для Ольги Густавовны. Вряд ли она сохранилась, но сейчас понимаю: какие бы аргументы я ни привел, ценность их была нулевая. Замысел автора так и оставался неразгаданным. «Да и был ли он?» — облегчал я себе собственные мучения. Поменяйте местами размышления Марка Аврелия или дневниковые заметки Жюля Ренара (с которым Олеша чувствовал родство) — потеряют ли они свою ценность, ослабнет ли интерес к их чтению? Примерно об этом я писал, да и говорил Ольге Густавовне. Она безусловно соглашалась со мной. То, что бесценна каждая запись — это у нее сомнений не вызывало. Так ли важно, в каком порядке они предстанут перед читателем? Для нее было существенней другое: скорее бы они появились на свет!
Теперь предстояло заручиться согласием еще одной, самой главной, но и самой трудной инстанции — Шкловского. Напомню: он возглавлял комиссию по литературному наследию писателя.
— Надо пойти к Виктору Борисовичу, — вздохнув, сказала Ольга Густавовна, — он должен познакомиться с вами.
Не скрывала, что встреча будет трудной. То ли в шутку, то ли всерьез предупредила:
— Если Виктору Борисовичу не нравится посетитель, он либо спускает его с лестницы, либо начинает разбирать газовую плиту.
Было так, не было, не знаю, но я во всяком случае воспринял ее слова вполне серьезно. Приглашены мы были на обед, и я так волновался, что не запомнил ни одного слова Шкловского, ни того, что нам подавали. Серафима Густавовна — жена Виктора Борисовича, младшая сестра О. Г. — бесшумно ходила из кухни в комнату, меняла тарелки, но что в них было — убей, не помню.
Впрочем, обед прошел вполне мирно. Моя жена испекла торт по одесскому рецепту, сколько помнится, сырный, и он, кажется, имел успех. Какие-то приятные слова говорила Серафима Густавовна, она была очень любезной и гостеприимной. Ольга Густавовна принесла мой план раскладки, ту самую «докладную записку», оставила у Шкловского, позже он должен был дать заключение. Так или иначе, но по лестнице мы спустились без проблем.
Исход был ожидаем. Мой текст вернулся уже через несколько дней, весь в вопросах и подчеркиваниях. Вместе со словами Шкловского, которые передала Ольга Густавовна: «Всякие мальчишки и девчонки…». «Мальчишка — это вы, — объяснила она. — Девчонка — я».
Сложил книгу литературовед, ученик Шкловского, Михаил Громов, и когда та вышла, жутко мне не понравилась. В том не было никакой обиды или ревности, просто мне показался искусственным, механическим сам принцип, каким руководствовался составитель. Правда, то, что в книге стало больше частей, посчитал удачным. Были разделены Одесса и Москва, получили свои собственные места встречи и размышления. Но что было внутри каждой из частей! Составитель по-своему определил логическую связь между разрозненными записями, взяв за основу чисто внешний признак: если в одной упоминалась лисица, то она появлялась и в последующей, если речь шла о дереве, то с большой вероятностью дальше можно ожидать упоминание березы или дуба. Названа книга «Ни дня без строчки», т. е. использовано название, которое дал своим записям, точнее, малой их части, сам автор в «Избранном» 1956 года. Мысль о том, что это может быть часть большого труда, что они подчинены какому-то единому сюжету, в то время даже не возникала.
Впервые, уже в наше время, к этому заключению пришла литературовед Виолетта Гудкова. Ее составление книги — наиболее полное из всех опубликованных текстов, названо «Книга прощания». Прежде всего — никаких разделов! Записи идут сплошным потоком — эпизоды собственной жизни, встречи с великими, впечатления от прочитанного — все перемешано. Автобиография — вот скрепляющая их нить. Возможно, о своей жизни иначе и нельзя рассказать, только так — дискретно и без видимого сюжета. Это то, что называют «потоком сознания». Отказалась составитель и от временных вех — воспоминания о детстве возникают где-то посередине книги, молодые годы — в конце ее. Типичный романный прием, как бы связывающий воедино разноплановые эпизоды, придающий им большую значительность, объемность, наделяющий их незамеченными ранее смыслами.
Но вот одно замечание, оно относится к названию, впрочем, не столько к самому названию, сколько к его авторству. В конце содержательного предисловия Виолетта Гудкова пишет: «Искренняя благодарность за ценные указания… (далее приводятся имена нескольких литературоведов), а также Л. Д. Гудкову, давшему название этой книге». Лев Гудков — известный социолог, руководитель Левада-центра, муж составителя. Название и в самом деле удачное, но есть один смущающий фактор: оно было известно задолго до выхода книги и принадлежит (здесь можно поставить три точки, как это делается, когда далее следует неожиданная информация), итак, название принадлежит… (все-таки поставим!) самому Юрию Карловичу. Впрочем, оговоримся: так утверждает Катаев. Это очень существенно, чуть ниже поясним.
Вот, что пишет он в книге «Алмазный мой венец», которая, кстати, на треть о друге его юности и последующих лет. Когда Олеши не стало, он назовет его единственным близким другом — несмотря на последующую возникшую размолвку, которая продолжалась вплоть до смерти писателя. Критикуя известный на то время титул («Ни дня без строчки»), Катаев сообщает: «…ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше… „Прощание с жизнью“, но не назвал, потому что просто не успел». Это было написано за четверть века до книги, собранной современным литературоведом!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: