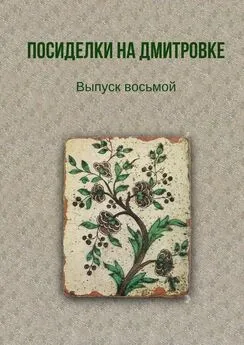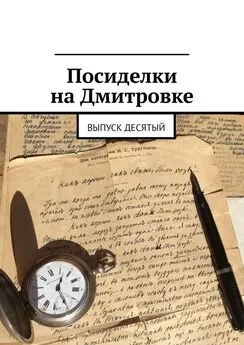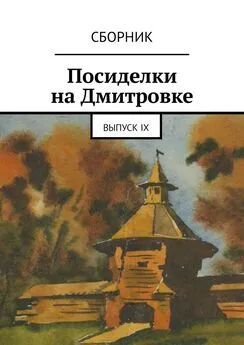Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Название:Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 краткое содержание
На 1-й стр. обложки: Изразец печной. Великий Устюг. Глина, цветные эмали, глазурь. Конец XVIII в.
Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первую посмертную публикацию — но все же как не связанных разрозненных заметок — предпринял Шкловский, душеприказчик Олеши, председатель комиссии по его наследию. Подборка появилась в журнале «Октябрь» и привела Ольгу Густавовну в неописуемый ужас. Она ходила совсем потерянная. Дело в том, что каждой записи было дано название, которого не было в оригинале, их придумал сам Виктор Борисович. Вторгнуться в текст Олеши, пусть даже гениальной рукой, что-то решить за него? Пусть даже человеком с самым высоким авторитетом — для нее это было невозможным, кощунственным. Где-то Ольга Густавовна заметила редактуру, и это стало для нее совсем невыносимым. Она вдруг вспомнила такие слова Юрия Карловича о Шкловском: «Мой злой гений», и не раз повторяла их. Ее переживания можно было понять, но так или иначе начало было положено, была публикация в журнале, теперь открыта дорога для книги. Надо только собрать ее. И вот — неожиданно — Ольга Густавовна предложила эту работу мне. Нужно ли говорить, что выбор был непродуманный, импульсивный, вызванный скорее отчаянием, нежели трезвым размышлением? Из крайности в крайность. Она уже обожглась, согласившись отдать листки Шкловскому, но мощная творческая личность, каким был Шкловский, не могла не вмешаться в рукопись, не внести в нее что-то свое. Второй раз вдова писателя этого бы не пережила. И вот теперь выбрала неопытного молодого человека, начинающего журналиста, у которого если и есть какая-то заслуга — это безграничная, почти священная любовь к текстам ее мужа. Но это и было важно для нее. Уж он-то он не посмеет коснуться бесконечно дорогих для нее строчек.
Ее предложение привело меня в крайнюю растерянность и смущение. Впрочем, сомнения продолжались недолго — я, конечно же, согласился. И дело было не только в самоуверенности, желании как-то отличиться, но и просто в стремлении выполнить просьбу Ольги Густавовны. Ее слово, ее просьбы были для меня непререкаемы. К тому же других кандидатов она просто не знала. Как я мог смалодушничать, сказать «нет»?
Впрочем, тут надо упомянуть еще о том, что, подумав, взвесив ситуацию, я не счел работу такой уж невыполнимой. Хотя идея автобиографического романа тогда еще не родилась, листки воспринимались как отдельные, не связанные друг с другом записи, но какие! Каждая мысль, каждый образ Олеши — жемчужина, так ли существен порядок, в котором они будут разложены? К тому же разрозненные тексты так или иначе тяготели к той или иной теме: детство, встречи с великими современниками (Мейерхольдом, Маяковским, Пастернаком, Ахматовой), размышления о прочитанном. Уже подсказка! Сложность лишь, в каком порядке лягут листки внутри каждой из частей. Попробуем…
Здесь не могу не сказать еще об одном поразившем меня факте — доверии Ольги Густавовны: так легко она отдала мне папки с рукописями и даже позволила их взять домой. В сохранности их, понятно, она могла не сомневаться. И тем не менее… Эти листки никогда не покидали дом, копий не оставалось. У Ольги Густавовны просто не было денег на машинистку.
Были ли у нее волнения насчет сохранности? Не могли не быть. Конечно же, она переживала, отдавая мне рукописи. А я — нет? Был спокоен? Тоже волновался — до дрожи. И потому — никаких метро, никакого общественного транспорта. На свою скромную зарплату — я работал тогда в одном проектном институте — брал такси и так возвращался домой, на Речной вокзал.
Но уж коли судьба решила наказать доверчивость… Несколько — а именно десятка два листков, и на каждом бесценные слова, мысли — безвозвратно пропали, более того: восстановить текст, узнать, чего мы лишились, не было никакой возможности.
Позвонил О. Г. Ираклий Андроников и попросил последние заметки Олеши — с тем, чтобы прочитать их с эстрады. Под клятвенное, понятно, заверение, что после этого немедленно вернет. Я сам по просьбе Ольги Густавовны отвозил ему эти страницы. Приехал по указанному адресу, позвонил, Андроников слегка приоткрыл входную дверь, взяв листки, захлопнул. Тем не менее, я считал свою миссию почетной — Андроников был невероятно популярен, и то, что именно он будет читать тексты Олеши, большая удача. Люди услышат необыкновенную прозу, и, может, тогда будет прорвана завеса молчания, окружавшая имя писателя?
Но кто же знал, что замечательный артист и лермонтовед окажется еще и собирателем рукописей? Андроников после концерта не позвонил, так и не вернул страницы, они остались у него. Можно было бы порыться в его архиве, найти там, но где он? Спустя какое-то время его дом в Переделкино сгорел, ничего не уцелело. Бесценные тексты пропали навсегда.
Не повернется язык винить в чем-то Ольгу Густавовну. Конечно, она понимала, что хранит. Но все отступало перед ощущаемой ею вопиющей несправедливостью: новое время не оценило Олешу, послевоенное поколение читателей прошло мимо него. А если его слава так и останется в прошлом? Что говорить — были основания так думать. Критика молчала, никак не откликнулась «Литературная газета», остались глухи более мелкие литературные издания. Незаметно прошла публикация его заметок в прогремевшей тогда «Литературной Москве». А когда Олеши не стало, его рукописями не заинтересовался даже Центральный литературный архив! Я сам, надо сказать, купил его книгу спустя месяц, после того, что она поступила в магазины. И это при той книжной лихорадке, которой мы все тогда были объяты! Словно подтвердились слова, когда-то услышанные случайно Юрием Карловичем, сказанные совсем по другому поводу. О них как-то вспомнила Ольга Густавовна. «Мы сидели на скамейке на Тверском бульваре, мимо шла молодая пара и ссорилась. Молодой человек, чтобы разрядить обстановку, сказал: «Смотри — Олеша!» Это было время его оглушительной славы. Девушка даже не повернула головы. Продолжая плакать, она сказала сквозь слезы: «Когда мне это совсем неинтересно!» Эти слова стали в семье Юрия Карловича расхожими, домашними, их произносили по поводу и без повода. Рассказав об этом, Ольга Густавовна заключила: «Вот сейчас они и оправдались, стал неинтересен».
В такой атмосфере, да еще учитывая авторитет Андроникова, винить ли ее в том, что она — под его клятвенное заверение! — доверила ему драгоценные листки? Позже я читал у Надежды Яковлевны Мандельштам, что она всю свою жизнь посвятила сохранению творчества поэта, дрожала над каждым не только его автографом, но и копией с него, а что не записывала — запоминала, и тем не менее какие-то его стихи оказались безвозвратно потерянными. Рукописи, к сожалению, горят. Не размноженные типографией, не застрахованные ею от утраты, они остаются беззащитными.
Правда, время работало на писателя. Первыми уникальность его таланта, в послевоенное, понятно, время, оценили на Западе. Ольга Густавовна рассказывала, что незадолго до смерти мужа у них в квартире побывали английские журналисты. Взяв интервью, попросили разрешения сфотографировать Олешу. «А можно я возьму в руки томик Ленина?» — спросил у них Юрий Карлович. Они не поняли. Сказали удивленно: «Почему вы спрашиваете? Возьмите, что хотите». Нужно ли, кстати, объяснять жест писателя? Это было еще до оттепели 60-х, но и та у поживших людей не вызывала больших иллюзий. Потерявший немало друзей в 30-е годы, сам числившийся в списках лиц, на которых дали показания несчастные узники, Юрий Карлович вправе был поступать, как поступал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: