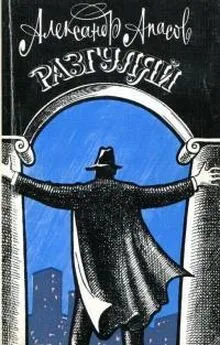Вениамин Додин - Площадь Разгуляй
- Название:Площадь Разгуляй
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Площадь Разгуляй краткое содержание
срубленном им зимовье у тихой таёжной речки Ишимба, «навечно»
сосланный в Енисейскую тайгу после многих лет каторги. Когда обрёл
наконец величайшее счастье спокойной счастливой жизни вдвоём со своим
четвероногим другом Волчиною. В книге он рассказал о кратеньком
младенчестве с родителями, братом и добрыми людьми, о тюремном детстве
и о жалком существовании в нём. Об издевательствах взрослых и вовсе не
детских бедах казалось бы благополучного Латышского Детдома. О
постоянном ожидании беды и гибели. О ночных исчезновениях сверстников
своих - детей погибших офицеров Русской и Белой армий, участников
Мировой и Гражданской войн и первых жертв Беспримерного
большевистского Террора 1918-1926 гг. в России. Рассказал о давно без
вести пропавших товарищах своих – сиротах, отпрысках уничтоженных
дворянских родов и интеллигентских семей.
Площадь Разгуляй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тонкое это мастерство с руки лишь истинному инженеру человеческих душ — философу, литератору, поэту! Потому лепилами становились особо доверенные интеллектуалы — сексотыассы, ВСЕОБЯЗАТЕЛЬНО проявившие себя особо одаренными стукачами еще на воле.
Главная фигура системы подавления сопротивления режиму Кремля — лагерный Опер в зоне! Первая забота Опера — место лекарского помощника в санчасти зоны — Лепилы. Место это Опер никому не уступит, даже родной матери, кроме своего надёжного и проверенного жизнью ставленника–агента: это его вожделенный и надёжный хлеб с маслом и икрой!
Нет, не для бывшего опера было это место, требующее тончайшего нюха, чтобы отличить стукача же от провокатора, плотву от щуки, и наличия в себе трепетной и нежной души, при необходимости нараспашку открывающейся людям… История сталинских лагерей накопила поразительный перечень таких эрудитов, прошедших через должность лепилы на зоне. И перечень этот содержит имена великого множества воистину, ещё прошу простить, великих культуртрегеров страны советов!…
…И вот в один прекрасный день «формуляр» случайно оказывается в руках придурка из уголовников… Другое дело, «уравниловки» в подходе к «гадам» у них не было. А было так: некоторых из оперов–зэков кодла опекала с почетом. Снимала с этапов. Пристраивала на приличных лагпунктах насовсем. И бывший следователь — человек — в тихом лагере выживал.
Судьба же большинства, опущенного в зоны, всегда оказывалась до неправдоподобия страшной. Чего только не творила кодла с попавшими к ней в руки чекистами! Не берусь сравнивать жестокость зэков–уголовников, пытавших и казнивших мучителей своих, — других, немучителей, эпоха, как правило, не держала, — с изощренной жестокостью следователей внутренних тюрем. К тому же практикующих предательство собственных товарищей, отправляя их самолично лагерной кодле на суд и расправу. После обязательной экзекуции, деталям коей здесь не место, протоколы о «факте зверского убийства» бывших «работников аппарата следствия», со всеми подробностями мучительства (обычно опускаемыми в подобных документах «за отсутствием необходимости»), направляются к местам их бывшей службы. И сотни фотокопий протоколов ложатся на столы еще работающих, еще живых следователей откровенным напоминанием–угрозой. Недвусмысленным предостережением-указанием, как надо жить и трудиться, чтобы твой собственный протокол — вот так же, как этот — не лег вскорости на столы твоих последователей–сменщиков…
Глава 156.
Обо всех этих подробностях воистину дьявольских игрищ Системы рассказал мне и Фатов. Не забуду его помертвевшего лица, когда он увидел этот листок обычной фотобумаги… Он лежал поверх обязательного свежего номера «Правды», которую утрами уборщицы разносили по кабинетам. Фатов смотрел на листок. Потом ладонью передвинул его на стекло стола. И, наклонившись к нему, негромко прочел. Сев, наконец, он пьяными пальцами сложил его. Убрал в карман гимнастерки. И потянул к себе папку с моим «делом».
— Так вот живем–можем, — сказал…
Потом встал. Отошел к окну. И неожиданно, не обернувшись ко мне, рассказал все… Что я давно знал по рассказам моих разгуляевских учителей–голубятников…
Да, с Берией все непросто: недаром расправились с ним грубо, и втихую, по болшевистски коварно — впритык в затылок и с метра в висок — пристрелив рукою Москаленко на закрытом заседании Совета министров СССР. После муссируя слухи об аоесте, следствии и законном расстреле…
Владимир Иосифович Никулин в камере № 19 находился с 1938 года. С этого времени обретался здесь и Всеволод Леонидович Стеженский. На следствии и его били зверски: отбили печень, желудок, селезенку… Он вставал редко — почти всегда лежал на животе, так легче ему было. Если сидел, или когда поднимался, он засовывал обе руки за пояс и прижимал желудок, как делают язвенники–хроники. Но это все не озлобило его.
Интеллигент до мозга костей, он не позволял себе грубого слова в чей–то адрес. А ведь за грубостью многие мягкие и незлобивые люди прячут бессилие и унижение. Беззащитность перед шквалом жестокости… От всего этого Стеженский защищался шуткой, не всегда удававшейся ему, инвалиду. Поэтому, видно, он предпочитал шутить над собой. Несомненно, был он человеком предельно мягким, заметно застенчивым. Хотя пытался этого не показывать. В нем чувствовалась сила и убежденность порядочности, глубокой и бескомпромиссной. И он, не задумываясь, вставал на защиту слабого. Это редкое уже тогда и почти совсем утерянное сегодня качество особенно проявилось при мне в отношении нашего сокамерника Александра Волчека.
Бывший секретарь Бакинского комитета ВЛКСМ, а потом и лубянский следователь, Саша Волчек был арестован летом 1937 года. Ко времени появления в нашей камере он уже успел по–бывать в лагере. В Бутырки его привезли на доследование. И вызывали почти каждую ночь. Держали до утра. Приволакивали в камеру невменяемым. Высокий, худой, с огромными карими глазами и черными кругами вокруг них на совершенно меловом лице, сохранившем какие–то орлиные черты, он производил впечатление тягостное. Темные глаза его залиты были безумием. Взгляд их наполнен был мукой безмерного страдания.
Когда я вспоминаю его, в уцелевшей полувоенной хламиде, с постоянно накинутой поверх скелетно–худых мерзнущих плеч длинной, до пола, рваной шинели, он кажется мне гениально вылепленным двойником трагической фигуры Михаила Бейдемана, каким увидела его и описала Ольга Форш в романе «Одеты камнем»…
Возвращаемый с допроса, он прятал кровоподтеки на дергавшемся в конвульсиях лице. Несколько минут возбужденно выкрикивая слова, рассказывал, будто продолжал прерванные воспоминания, о каких–то своих победительных встречах с женщинами… Все эпизоды встреч происходили в освещаемых солнцем котлованах — глубоких и обширных. Или звездными (иногда лунными) ночами на балконах верхних этажей известных московских гостиниц… Подробности «побед» были отвратительны. Роль женщин — мучительна и страшна… Сам рассказчик — его внешность в такие минуты рассказа — был непередаваемо гадок. Зеленая пена накапливалась в углах его воспаленных — в коростах ран — красивых, чувственных губ. Глаза светлели. Наливались осмысленной тоской. Страхом. Нестерпимым ужасом… Он кидался к нарам. Падал на них плашмя. Механическими движениями искалеченных рук с тонкими, аристократическими пальцами наматывал на голову шинель. И мгновенно засыпал… Это было неправдоподобно: механические конвульсии рук и мгновенный сон! Потому что так же мгновенно он просыпался. И такими же движениями–конвульсиями вскакивал и срывал с лица шинель… Поднявшись, он снова набрасывал ее на плечи. Проглатывал — шумно, захлебываясь, — оставленную ему баланду. Засовывал утренний ломоть хлеба в карман шинели. Начинал бесшумно метаться по камере деревянными прыжками, словно кукла на нитках. И в этом сомнамбулическом движении отщипывал хлеб маленькими кусочками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: