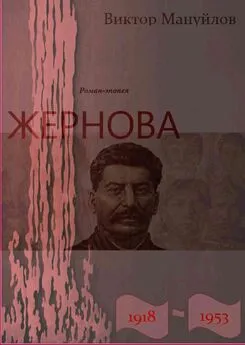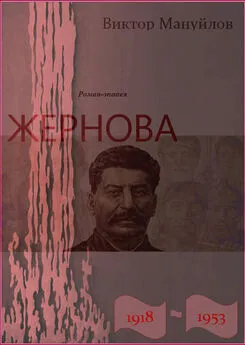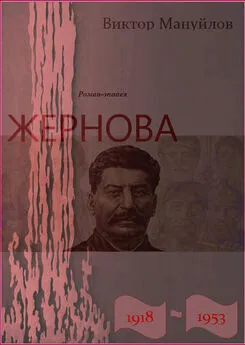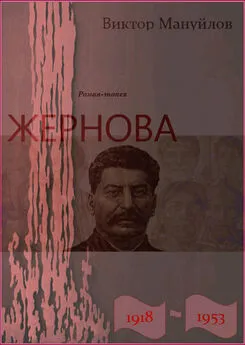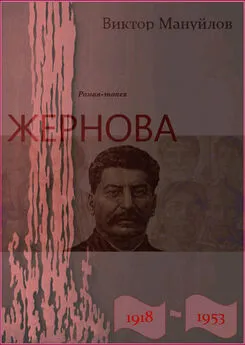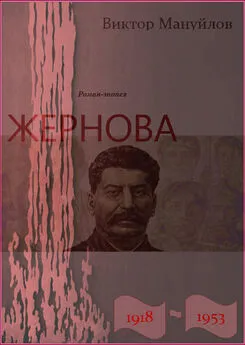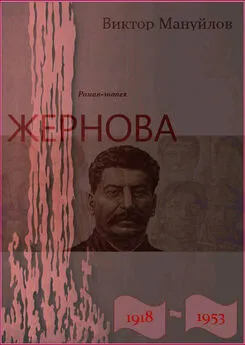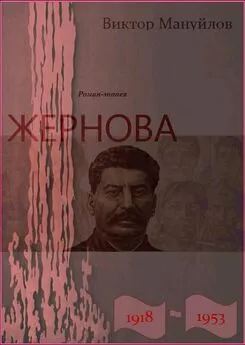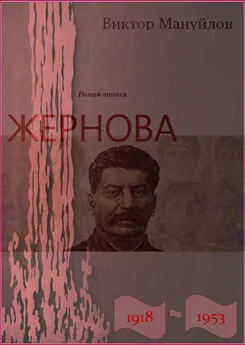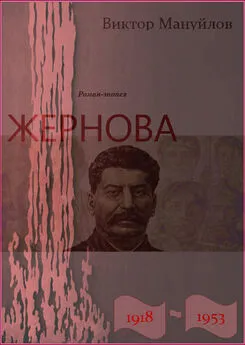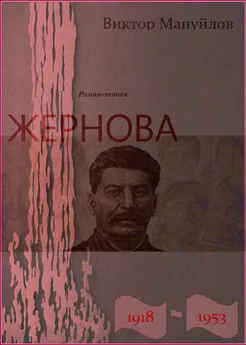Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. За огненным валом
- Название:Жернова. 1918–1953. За огненным валом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. За огненным валом краткое содержание
Жернова. 1918–1953. За огненным валом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Над большим камином старинные часы сыграли менуэт, затем отметили мелодичными звонами каждый минувший час. И когда прозвучал последний перезвон, дверь отворилась, и в зал вошел маршал Жуков, сопровождаемый двумя генералами: членом Военного совета и начальником штаба.
Гул голосов смолк, все повернулись в одну сторону. Алексей Петрович, сугубо мирный, гражданский человек, хотя уже почти четыре года не снимающий военную форму, непроизвольно подтянулся, и по тому напряжению, с каким все смотрели на фигуру маршала Жукова, и по напряжению самой фигуры маршала, вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха, что еще минута… какой там минута! — несколько секунд! — и он разрыдается на глазах у всех. Но он не разрыдался, а лишь стиснул зубы от усилия удержать в себе это неожиданно нахлынувшее чувство, и удержал его, лишь судорожно всхлипнув. Но никто не обратил на его всхлип внимания.
Жуков остановился там, где голубая лента реки Шпрее врезалась в городские кварталы. Было нечто величественное в том, как стоял Жуков и сопровождающие его генералы в благоговейном молчании собравшихся. Лишь вспышки магния и треск кинокамер нарушали эту тишину.
Никогда еще Алексей Петрович не чувствовал так отчетливо свою причастность к великим историческим событиям, которые вершились на его глазах. Видимо, и другие чувствовали то же самое. Но когда кто-то попытался выразить это ощущение хлопками в ладоши, его никто не поддержал, и хлопки тут же испуганно опали.
— Я рад приветствовать вас от имени командования Красной армии, — произнес Жуков. — И готов ответить на все ваши вопросы.
Однако никакой радости на лице маршала заметно не было: оно оставалось каменным, непроницаемым, напомнив Алексею Петровичу того Жукова, которого он видел прежде. В первый раз — это там, на разъезженной дороге под Волоколамском в начале октября сорок первого, второй — на Курской дуге, затем… затем в просторной избе на правом берегу Вислы в январе сорок четвертого. Затем… да он уж все мимолетные встречи и не упомнит.
На первый взгляд Жуков внешне почти не изменился. Разве что походка стала несколько тяжеловатой. Но не измениться он не мог, как не могли не измениться все, кто стоял сейчас в этом зале, и кто не стоял — тоже. Время и события не могут определенным образом не влиять на людей. Кем бы они ни были. И сам Алексей Петрович стал совсем другим человеком, мало похожим на Задонова, встретившего Жукова под Волоколамском. И даже на себя самого в той избе на правом берегу Вислы, хотя с тех пор миновало менее четырех месяцев. Недаром говорят, что на войне год идет за два, а то и за все пять.
Хотя встречи с Жуковым представлялись ему почти случайными, однако в промежутках между ними Жуков все равно так или иначе присутствовал в сознании Алексея Петровича, точно находился за закрытой дверью и мог открыть ее в любую минуту. Надо думать, происходило это потому, что за всеми боями и передвижениями фронтов все эти годы стояли всего две фигуры: его, Жукова, мрачная и решительная, и фигура Сталина, еще более мрачная и решительная. Что-то вроде Александра Первого и Кутузова, но в современном исполнении. И никакие генералы, в том числе и командующие фронтами, бывшие и нынешние, не были видны ни рядом, ни даже где-то вблизи. Только эти двое.
Теперь, глядя на маршала, Алексей Петрович мог с полной определенностью сказать, что за минувшие четыре неполных года роль этих двух фигур — Сталина и Жукова — вполне прояснилась как в его собственном отдельном сознании, так и в сознании всего народа, как роль исключительная, решающая. При этом оба не мыслились друг без друга, хотя масштабы измерения имели разные. Но поскольку все так или иначе замыкалось на узкой полосе фронта, где складывались усилия государства, народа и армии, именно там эти фигуры и стояли, вбирая в себя всю силу, скопившуюся у них за спиной. Даже тогда, когда Жуков стал одним из командующих фронтами, он не утратил своего веса и значения. Скорее, наоборот: этот вес и значение сконцентрировались в одной точке. И точкой этой стал Берлин.
Что-то спросил англичанин. Кажется, о том, что испытывает маршал, войска которого дерутся в самом Берлине.
Впервые Алексей Петрович увидел улыбку Жукова: скупую, едва тронувшую узкие губы. Улыбка была, скорее всего, снисходительной, потому что ответ подразумевался. Так, по крайней мере, казалось Алексею Петровичу.
И Жуков сказал то, что и должен был сказать:
— Удовлетворение.
И снова замкнулся, холодно оглядывая толпу людей, настолько далеких от него, как будто все они явились с другой планеты. У Жукова, как заметил Алексей Петрович, и уже не впервой, тяжеловато было с чувством юмора, а если оно и присутствовало, то такое же тяжелое, каменное, как и лицо маршала.
Что-то спрашивали у командующего фронтом еще, но все это мало интересовало Задонова. Ему интересен был сам Жуков, и даже не столько Жуков-полководец, сколько человек, обитающий в этом полководце. Вернее, сколько осталось в нем именно человеческого… Ведь посылать миллионы людей на смерть — для этого надо что-то в себе задавить. Не жалость, нет, а что-то более значительное. Но и не посылать — тоже ведь что-то задавливается, теряется. Он, Задонов, это чувствовал всегда по себе самому. Хотя и не знал, как связать и совместить в одном человеке способность мочь, а в другом — не мочь. Наконец, чем Жуков отличается от того же Конева? Или Рокоссовского? И мог бы кто-нибудь заместить Жукова на его месте? Скажем, в том случае, если бы случайный снаряд или бомба… Теперь отчетливо видно — вряд ли. Определенно не мог бы никто. А если бы вдруг, то непременно как-нибудь по-другому, с другими последствиями для армии и страны. Особенно если вспомнить, как Конев и Рокоссовский летом сорок первого бессмысленно гробили свои дивизии в бесплодных контратаках. Ведь это же факт: на Украине Жуков в первые дни войны тоже контратаковал, не безупречно, разумеется, как это теперь стало известно Алексею Петровичу, но не так расточительно. И под Ленинградом — то же самое. И там и там немцы не смогли окружить ни одной армии, хотя силы у них в ту пору были еще велики. И, наконец, под Москвой…
Слыхивал Алексей Петрович от кого-то восточную поговорку: десять ишаков не заменят одного коня. Все это так. Но и пяти ишаков хватит, чтобы вытащить коня из ямы, если тот в нее попадет. Потому что конь, хотя и о четырех копытах, иногда спотыкается. Но эти иносказания, если переносить их на Жукова и Сталина, еще надо суметь понять и объяснить. А потом описать, но так, чтобы в это поверили. И если Алексей Петрович чего и боялся, то своей излишней эмоциональности, от которой не избавился даже за годя войны.
Замок покидали толпой и разъезжались кто куда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: