Иван Наживин - Перунъ [Старая орфография]
- Название:Перунъ [Старая орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1927
- Город:Парижъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Наживин - Перунъ [Старая орфография] краткое содержание
Перунъ [Старая орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И Левъ Аполлоновичъ тотчасъ же послѣ завтрака, смутно тревожный, поѣхалъ въ монастырь: ему чудилось что-то зловѣщее въ этомъ странномъ посланіи…
XXIV. — ШУРАЛЬ
— Э-эй, паромъ! — повелительно крикнулъ Корнѣй на монастырскій берегъ. — Жива!
Изъ землянки Шураля показалась пожилая, крѣпкая, какъ мужикъ, мать Софья, монахиня, которая иногда смѣняла Шураля на перевозѣ, когда тому нужно было отлучиться куда. Мужики звали ее «мать Софья Премудрая» и боялись ея, какъ огня. Чуть что не такъ, мать Софья, не говоря худого слова, — это было ея любимое присловье — такъ отдѣлывала мужика, что тотъ въ другой разъ и ѣхать на монастырскій перевозъ не осмѣливался, а переправлялся подъ Устьемъ. И безъ всякаго стѣсненія мать Софья обирала съ проѣзжихъ семитки и пятаки: бѣсъ гортаннобѣсія владѣлъ ею издавна и никакъ не могла она совладать съ нимъ. И селедка съ лучкомъ, и малиновое варенье, и копчушки эти маленькія, и халва орѣховая, и многое другое составляло предметъ постоянныхъ мечтаній матери Софьи.
Черезъ десять минутъ паромъ тупо ткнулся въ берегъ и Корнѣй осторожно свелъ свою пару на дощатый помостъ.
— А гдѣ же Шураль? — спросилъ мать Софью Левъ Аполлоновичъ.
— Отлучился куда-то, батюшка… Не знаю… — отвѣчала та. — Меня вотъ замѣсто его потрудиться поставили…
Переѣхавъ черезъ Ужву, Левъ Аполлоновичъ пошелъ пѣшкомъ въ крутую монастырскую гору. Съ высокихъ деревьевъ сыпался послѣдній золотой листъ. И сѣро, и низко, и грустно было осеннее небо…
Прозвонили уже «къ достойнѣ», когда Левъ Аполлоновичъ вошелъ въ церковь. Служба сразу захватила его встревоженную послѣдними событіями душу и тишина, полная бездонной грусти, спустилась на нее. И Левъ Аполлоновичъ началъ молиться тепло и проникновенно…
Онъ и не замѣтилъ, какъ кончилась обѣдня. Богомольцы, шаркая ногами и сдержанно покашливая, двинулись къ выходу. «Къ Тебѣ прибѣгааааемъ…» торопился съ молебномъ въ глубинѣ церкви уставшій хоръ. На паперти нищіе жалобно просили о подаяніи… Левъ Аполлоновичъ нагналъ схимницу:
— Вы изволили выразить желаніе видѣть меня, мать Евфросинія? — почтительно освѣдомился онъ.
— Я? — удивленно уронила схимница, поднявъ на него свои скорбные, тяжелые глаза. — Нѣтъ…
— Но… — удивился Левъ Аполлоновичъ.
Онъ съ удивленіемъ оглядѣлся: народъ, вышедшій изъ церкви, не расходился, а становился широкимъ кругомъ неподалеку отъ лѣстницы храма. А запоздавшихъ богомольцевъ, которые, крестясь, выходили изъ церкви, Шураль, перевозчикъ, въ новыхъ лапоткахъ, съ орѣховымъ подожкомъ и съ холщевой сумочкой за плечами, совсѣмъ какъ странникъ, останавливалъ:
— Не уходите, православные, сдѣлайте милость… Обождите маленько… Дѣло до васъ всѣхъ тутъ есть… Постойте маленько…
И всѣ, удивленные и этой просьбой, и тѣмъ, что онъ заговорилъ, становились въ кругъ и, ничего не понимая, недоумѣвающе переглядывались. Наконецъ, Шураль, быстро оглядѣвъ всѣхъ, истово перекрестился и, весь бронзовый, точно опаленный, съ ярко сіяющими глазами и крѣпко сжатыми челюстями, рѣшительно шагнулъ навстрѣчу Льву Аполлоновичу:
— Честь имѣю явиться, ваше высокородіе: бывшій матросъ съ крейцера «Пантера» Юфимъ Омельченко… — вытянувшись, обратился онъ къ Льву Аполлоновичу и было слышно, какъ звякнули его вериги. — Имѣю сдѣлать вашему высокородію важное донесеніе…
Пораженный, Левъ Аполлоновичъ вглядѣлся въ бородатое, бронзовое, исхудалое, какое-то точно иконописное лицо и сквозь эти опаленныя, обострившіяся черты проступило что-то смутное, давно забытое: то молодое, наивное, полное жизни лицо, которое онъ еще недавно видѣлъ во снѣ.
— Говори… — сказалъ Левъ Аполлоновичъ, чувствуя, что и его охватываетъ волненіе.
Богомольцы, вытягивая шеи, безпорядочно надвинулись ближе. И было что-то непріятное въ этихъ жадно ожидающихъ глазахъ ихъ, въ этомъ стадномъ, тупомъ любопытствѣ…
— Признаете ли вы меня, ваше высокородіе? — спросилъ Шураль тихо. — Я вѣдь недолго подъ вашимъ начальствомъ на крейцерѣ служилъ, ваше высокородіе… И трехъ мѣсяцевъ не выслужилъ и ушелъ въ бѣга…
— Почему? — строго спросилъ Левъ Аполлоновичъ, въ которомъ вдругъ проснулся былой командиръ «Пантеры».
— Дюже тяжко на суднѣ было, ваше высокородіе, ужъ вы извините… — отвѣчалъ Шураль. — Я человѣкъ степной, вольный, а крейцеръ-то былъ для насъ все одно, что клѣтка для птицы… Вѣдь, живые люди все, ваше высокородіе, а на службѣ, извините, не только лишняго не скажи, а и не подумай… Только одно и знали, что «такъ точно»… И бывало, идете вы по крейцеру-то, — ужъ извините, ваше высокородіе, — такъ у всей тысячи человѣкъ ноги трясутся: пронеси только, Господи… Ну, другіе, которые посмирнѣе, терпѣли, а я ушелъ…
— Постой… — остановилъ его Левъ Аполлоновичъ. — Ты скажи мнѣ прежде всего, для чего тебѣ нужно было вызывать меня сюда? И для чего собралъ ты тутъ народъ?
— Объ этомъ рѣчь впереди, ваше высокородіе… — отвѣчалъ почтительно Шураль. — Дозвольте все по порядку… Я понималъ, ваше высокородіе, что вся эта строгость для пользы дѣла… я видѣлъ, вѣдь, что и себя вы не жалѣете нисколько, — не то, что иные протчіе командеры… И здѣсь вотъ, кого ни спроси, всѣ въ одинъ голосъ скажутъ: строгъ угорскій баринъ, но справедливъ и милостивъ… Да… Я это очень понималъ, ваше высокородіе, а все таки вытерпѣть не могъ, потому сызмальства я къ степи, къ своей волѣ привыкъ. Ну, какъ убѣгъ я, показаться домой мнѣ было ужъ нельзя и я забосячилъ — вмѣстѣ съ голотой этой всякой безпашпортной: ихъ тысячи, вѣдь миліёны, по Расеѣ шатаются, гдѣ день, гдѣ два, сегодня сытъ, а завтра голоденъ… И озлобился я, ваше высокородіе: потому такіе же вѣдь люди, а житье имъ горе-горькое… Оно, правда, многіе отъ себя страдаютъ — больше все черезъ пьянство, — ну, я такъ полагаю, что ко всякому человѣку жалость имѣть надобно, ваше высокородіе… И вотъ болтался я разъ въ Сухумѣ городѣ, отъ небилизаціи противъ японцевъ прятался и вдругъ вижу, въ бухтѣ «Пантера» якорь бросила. А вечеромъ какъ-то съ матросами я повстрѣчался и разсказывали мнѣ они, что былъ у ихъ на борту бунтъ большой и что военный судъ разстрѣлялъ восемь человѣкъ. И были всѣ матросы какъ бы внѣ себя. И загорѣлся я, ваше высокородіе, такъ что хошь на ножъ… Ваше высокородіе, дѣло прошлое, но вотъ, какъ передъ Истиннымъ — онъ широко перекрестился на церковь и вериги его звякнули, какъ кандалы, — вы, человѣкъ справедливый, въ томъ дѣлѣ поставили себя неправильно. Ваше высокородіе! — стукнулъ онъ себя кулакомъ въ грудь и опять звякнули его вериги, — на убой гнали насъ тогда тысячами и не знамо за что, и не посовѣсти вели войну правители наши, и народъ возропталъ по закону, по Божьему. Вѣдь, и мы живые люди, ваше высокородіе, вѣдь, и намъ больно бываетъ… И вы, человѣкъ справедливый, замѣсто того, чтобы поддержать народъ въ правдѣ его, вы восемь человѣкъ разстрѣлять приказали!.. И загорѣлся я… И сговорились мы съ матросами, чтобы сосчитаться съ вами за кровь народную, невинно пролитую, и когда вашъ сынъ съ патрулемъ шелъ два дня спустя за городомъ, я… я… изъ колючки… я убилъ его… — едва выговорилъ онъ и, чуть звякнувъ веригами, поднялъ руку просительно и быстро добавилъ: — Подождите, ваше высокородіе: я кончу, тогда вы и прикажете связать меня… и отправить… Дайте только докончить: я не сбѣгу… я самъ же пришелъ къ вамъ, чтобы повиниться… Да… Ударился я на Волгу… А тамъ тоже народъ крѣпко зашумѣлъ: потому и тѣснота тамъ въ землѣ большая — все помѣщики подъ себя забрали, — и всѣхъ война съ японцами прямо на дыбы подняла: тысячи народику положили, а кромѣ страмоты на весь свѣтъ ничего не получилось… И попалъ я какъ-то по заходу въ одно село большое, Хороброво прозывается…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Иван Наживин - Перунъ [Старая орфография]](/books/1073118/ivan-nazhivin-perun-staraya-orfografiya.webp)
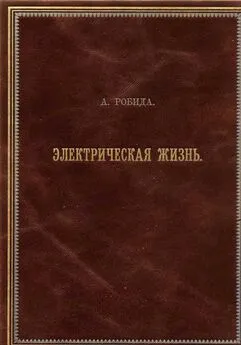
![Аркадий Аверченко - Записки театральной крысы [старая орфография]](/books/469240/arkadij-averchenko-zapiski-teatralnoj-krysy-stara.webp)


![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/1068227/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr.webp)
![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ пятый. Американскіе разсказы [Старая орфография]](/books/1068946/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to.webp)
![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ четвертый. Скитанія [Старая орфография]](/books/1069988/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to.webp)
![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/1070403/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to.webp)
![Владимир Богораз - Унпегер. Полярная сказка [Старая орфография]](/books/1070619/vladimir-bogoraz-unpeger-polyarnaya-skazka-staraya.webp)
![Илья Эренбург - Золотое сердце. Ветер [старая орфография]](/books/1094242/ilya-erenburg-zolotoe-serdce-veter-staraya-orfogr.webp)