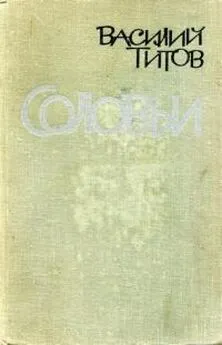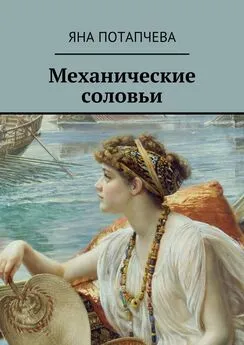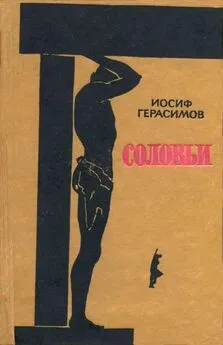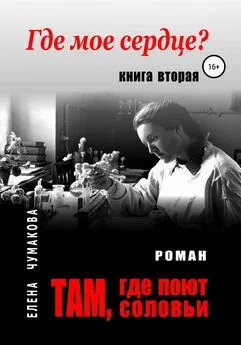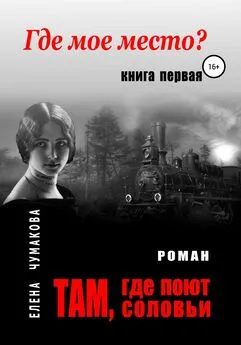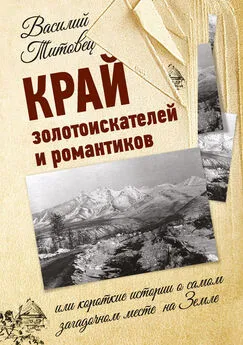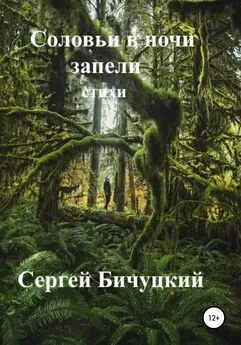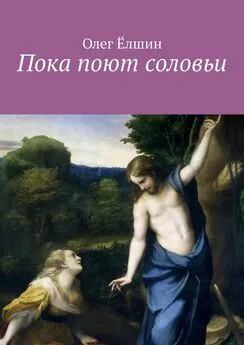Василий Титов - Соловьи
- Название:Соловьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Титов - Соловьи краткое содержание
Соловьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Самой же правдивой историей про него будет та, как он не однажды из своего дошника с облцентром разговаривал. Давно это было, в довоенные поры. В те годы Гаврил Гаврилыч председателем какого-то маленького райсовета был, а также был и в расцвете творческих и организаторских сил.
Но, может быть, вы не знаете, что такое до́шник? Так это же большой чан, дощатый, высокий, в которых прямо в поле или огородах солят в большом количестве капусту впрок. Такой дошник врывается в землю, рубленая капуста засыпается в него слоями, слоями просаливается крупной солью, слоями хорошо уминается хождением по доскам, положенным на нее. Продукт получается при этом отменный, хранится до весны. А можно дошник открыть и в любое время рассыпать содержимое по бочонкам. Удобно, недорого, а главное, надежно.
В том районе, где председательствовал Гаврила Гаврилыч, этот способ хранения рубленой капусты был самым испытанным и надежным способом. Там и соленые огурцы в бочках никогда по подвалам да хранилищам не распихивали. Солили там огурцы прямо в поле, на берегу речки, озера. А как только бывали они посолены, так в бочку второе днище вставляли, набивали обруч, а бочку скатывали в озеро — плавай себе. Сколько так-то под зиму в лед бочек уходило. Лед жмет бочку сверху, с боков стиснуть хочет. А она вырывается, под лед стремится, только чуть один бочок сверху оставляет.
А потом к этим озерам, речным бучалам зимой приезжали на лошадях, вырубали из-подо льда бочки, на сани вкатывали да и везли, хочешь — в город на продажу, хочешь — в хозяйство к себе, — везде результат с продуктом один был: огурчик к огурчику в бочке лежит, как свеженький с грядки.
Капусты в этом районе, где тогда служил Гаврила Гаврилыч, сажали много — ею жили.
Да, но все это о дошнике и капусте. А о самом-то Гавриле Гаврилыче что? А вот что. Однажды такой дошник приказал он в каком-то колхозе — в каком, теперь никто и не помнит — спустить на воду да и поставить на утиной старице на какой-то речке на столбушки так, чтобы в него и подняться по сходенкам можно было и чтобы удобно из него на сходенки можно было выйти.
Это для чего же? А для того, чтобы любому районному начальству, обремененному службой, а коли угодно, то и областному тож, можно было без особого труда поохотиться с пользой на этой старице и трофей наверняка домой привезти. Старица эта в те времена водоплавающей дичью кишела. И на кой тут черт строить какие-то скрадки́, держать подсадную утку, когда вот из такого дота с отличным круговым обстрелом можно всякую уть бить без риска лезть в воду за ней, была бы только с собой хорошо натасканная собака. А нет у кого собаки, можно будет приспособить старичка, который доставлять ее станет на лодочке.
Гаврил Гаврилыч оборудовал дошник внутри лесенкой, лежаками для отдыха, очень удобным столиком для чаепития и приказал провести в дошник телефон. Для чего? Да для удобства же! Вот сидит в дошнике человек, бьет уток, а вдруг звонок к нему откуда-нибудь, может, из самой Москвы. Тогда он берет трубку, говорит: «Да, да, я вас слушаю», говорит это, как из своего кабинета, и никто не знает, что он в это время на болоте сидит.
В те времена с телефонной связью не везде в районах было хорошо. Даже иные, далекие от райцентра сельсоветы были без телефонной связи и довольствовались тем, что им на записочках передавалось из тех мест, где телефоны были. Минуло, но было такое время. Но так или иначе, а дело в том, что Гаврил Гаврилыч так здорово оборудовал эту свою дошниковую линию, что работала она не хуже любой московской. Да и на станции в районе так заведено было, что едва Гаврил Гаврилыч спустится, приехав, в свой дот — он так называл этот дошник, — едва расположится в нем с собакой на ночь, как со станции к нему звонок: «Прибыли, Гаврил Гаврилыч?» — «Прибыл». — «Благополучно?» — «Вполне». — «Так, значит, ежели что, на прямую с вами соединять?» — «На прямую». И все! И дело с концом! И все думают — Гаврил Гаврилыч дома или в своем кабинете в районе при исполнении служебных обязанностей.
Хорошо, ловко придумал Гаврил Гаврилыч. И что же? Все-таки однажды в облцентре кто-то разгадал, где он пропадает, когда его дома нет, а отвечает, как из дома. И получился «конфуз», как назвал свой провал с дошником сам Варганов. А вслед за этим скоро и помели товарища Варганова из председателей.
«Знать, навеки мне оставаться охотником», — решил тогда Гаврил Гаврилыч, да так и сделал, да так долго и охотничал, покуда его не выбрали председателем, стало быть, и руководителем местного Общества охотников, а потом он и до области дошел. Понаторел, поднабрался всего разного да и стал хозяином охотничьих областных угодий. Много лет с этой должности не слезал, в каковой и представился в знакомстве с Павлом Матвеичем.
Когда наутро следующего дня Варганов явился к Павлу Матвеичу, у него руки отвисли от папок, зажатых под мышками. В этих папках у него была документация: диаграммы, подсчеты, учеты и огромное количество фотографий. Взглянув на всю эту документацию, Павел Матвеич не без удивления подумал, что Варганов основательно и много лет работал над всеми этими данными.
— Верно ли, что у тебя такое поголовье? — спросил он Гаврил Гаврилыча.
— А как же, самое наиверное. Воздушным способом учет произведен, — не моргнув глазом, отвечал Варганов.
И тут он стал доставать листы фотографий и выкладывать на стол. И удивительно знакомая картина открылась перед Павлом Матвеичем. С каждой из них глядело на него такое лосиное стадо, встретить в природе какого было невозможно. Все было верно — и редколесье с болотниками, и мелколесье с открытыми полянами и кочкарниками, и точно так же, как видел это Головачев с самолета после охоты на волков, лоси брели хорошим шагом куда-то. Но что-то уж было на каждой фотографии много лосей.
И приглядевшись, Павел Матвеич догадался, отчего так. Глаз фотоаппарата с высоты брал огромную площадь под собою и сужал ее до размеров почтовой открытки. И тут стало совершенно очевидно, что мелкие стада лосей, которых подшумели самолеты при съемке на лежках, все стремились уходить в какую-то одну ими выбранную сторону и, встречаясь, грудились. На фотографиях были видны и пути их отхода со своих мест, и общая дорога, на которой они грудились, и уже одно это не внушало доверия к этим фотографиям.
Павла Матвеича взяло сомнение. Он спросил:
— Отвечаешь ли ты за свой подсчет? Ты же сам говорил, что всего года три назад лосей здесь насчитывалось не более полутора тысяч?
— Да то ж егеря считали. А можно верить егерю? — отвечал Варганов. — Любой егерь пару волков, как пару овец на своем дворе, в зиму близ себя оставит. Для чего? Да для заработка. У егеря и волк скотина. Он по весне у этих своих волков только выводок огребет, как ему государство уже премию платит за каждого щенка! Мол, вывел волчье племя. Егерю верить нельзя. Фотоглазу верить можно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: