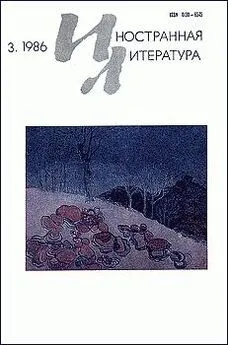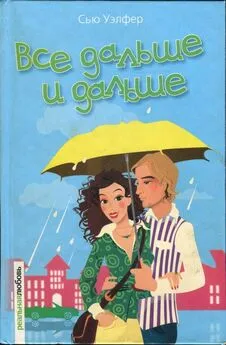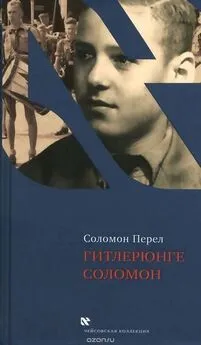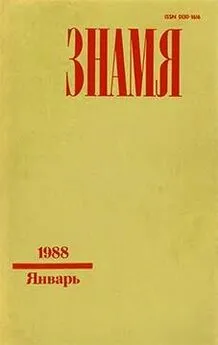Соломон Марвич - Сыновья идут дальше
- Название:Сыновья идут дальше
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Соломон Марвич - Сыновья идут дальше краткое содержание
Читатель романа невольно сравнит не такое далекое прошлое с настоящим, увидит могучую силу первого в мире социалистического государства.
Сыновья идут дальше - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вместе с Микеней выросли и другие надежные люди — опора завтрашних перемен в Березовской волости. Не стал таким старый землемер. Этот не живет, а доживает с невыносимым сознанием того, что убито было в нем лучшее, которое он в молодости принес в Березовскую волость. Так и сказал о себе Родиону Севастьян Трофимыч, весь какой-то вихляющийся и пьяненький: «Я и жить по-настоящему не начал. Потянулся я к светлому, а силенок-то нет. Прозреть прозрел, а вижу, что невылазно у меня. Не дай бог никому так прозреть. Простите великодушно».
Жена на время оставалась в деревне. Родион поспел к ночному поезду. Микеня, поехавший проводить его, торопливо подал на площадку корзинку, и Родион уехал навсегда.
3. В минуты молчания
Они стояли рядом на заводском дворе, Родион и Чебаков. Ветер поднял над насыпью белую завесу. В минуту затишья она оседала, и тогда были видны снежные деревья и дома за железной дорогой. Три дня Родион ходил по заводу. С ним здоровались как с человеком, которого хорошо помнят и уважают по-прежнему. Но слишком уж пытливо глядели Родиону в глаза. Он догадывался почему, — должно быть, сильно его изменила болезнь. Чебаков его крепко обнял, но не сказал по-своему: «Родиоша, детка, мальчик». Это он раньше любовно шутил, когда от Родиона веяло огромной, нестареющей, ничему не поддающейся силой. Глаза Чебакова покраснели от волнения. Он водил Бурова по цехам и говорил:
— Расширяемся, Родион Степаныч.
— До полной широты еще далеко.
— А ты по восемнадцатому году смотри, когда тебя… — Чебаков запнулся.
Родион посмотрел на него.
— Поминать не хочешь? Там это было. — Буров показал в сторону, где раньше стояла заводская часовня. — Туда и прибежал Воробьев.
Пошли тише. Свет был рассеянный, вялый, сдавленный низким, облачным небом. И от мелкого снега, который сыпал без конца, становилось еще темней. Зажигали станционные фонари. Замелькали огни в окнах цехов.
На Красной площади саперы, окончив работу, отошли от промерзшей земли. Начиналось последнее прощание с Ильичем. Гроб Ленина несли на площадь. И за ним идет вся столица, делегаты всей страны. Окончен и последний этот переход.
За станцией загудел паровоз, но не отрывисто, как утром, а протяжно. Загудел второй, третий, ближе, дальше, еще дальше. В Москве и в Закавказье, в полярной тундре, на путях возле Устьева гудят они вместе в бесконечные эти минуты, на всех путях страны, и от океана к океану разносят скорбный сигнал. Загудел Устьевский завод во всю силу котлов. Гаснут огни на дороге, в окнах цехов, в домах за дорогой.
Чебаков снял шапку.
— Какой человек!.. Какой человек!.. — говорит он сам себе и озадаченно, как все эти дни, качает головой.
Старик думает об этом человеке. Он его не видел. А ведь мог бы увидеть.
— Родион Степаныч! — зовет Чебаков. — А вы его тогда к нам на завод звали? В семнадцатом?
— Звали. Обещал приехать.
— Чего ж не был?
— Не мог. Скрываться ему тогда пришлось.
— Так я его и не видел, Родиоша… не удалось. Если бы хоть раз встретить, я бы всегда видел его.
Но чудится старику, что всю жизнь он чувствовал Ленина рядом. Был Ильич рядом, когда сын целый вернулся с войны. И то, что в голодный год ослабевших стариков посылали в больницу на поправку, — и этому Ленин, должно быть, научил Дунина. Всегда, всегда Ленин глядел на него отовсюду. Ленин знал, о чем думают такие простые, незаметные люди, как Чебаков. Их мысли доходили до него — и тогда, когда собирались у совещательной печурки, и в те дни, когда начинали перестраивать старый посад. Со всеми Ленин был рядом, с каждым, кто думал о нем, каждого, кто хотел людям помочь, озаряла правда Ленина.
Проходят долгие минуты. Гудки умолкли, но томящий звук еще звенит в железе корпусов. Он становится тише и тише, и земля заглушает его. Потом неуверенно зажигаются огни.
— Придет время, — говорит Родион, — и во всем мире в этот день будут гасить огни, и гудки будут гудеть, и машины остановят. Ты подумай, Палыч. Всего-то несколько лет прошло — и нет угла в мире, где не знали бы о нем, даже в самых дебрях знают. Так еще не было ни с одним человеком.
Пора идти.
— Родион Степаныч… Родиоша… А теперь как же мы будем без него? — это вырвалось у старика, как стон. — Как дальше?
Вот так семь лет тому назад Чебаков торопил Родиона другим жгучим вопросом — о войне, о судьбах людей. Теперь Чебаков слышит в ответ:
— Что ж ты так, Палыч? Ведь сколько нам оставил Ильич. Этим и надо жить.
— Ты мне больше, больше скажи об этом, Родион.
Спустя несколько дней в том же зале, где вспоминали о далеком январском воскресенье, Чебаков говорил на собрании:
— Когда прочел я смертный бюллетень, понял, что живу душою партии. Хочу жить и умом партии. За эти дни, что Ильич умер, море слез пролито. А повернись — есть на что поглядеть. Строим мы новую жизнь с новой душой, с новым умом. Под крышу надо подводить. Вот и хочу с партийным умом работать. Прошу меня принять в партию. На заводе я тридцать четвертый год. Тут оно сказано.
Он протянул в президиум потемневшую от времени, потрепанную казенную книжку мастерового со старым, почти истершимся гербом.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Ворон местного значения
Если не считать Горшенина, тихого деликатного Горшенина, то Брахин один из старых устьевских большевиков оставался в поселке.
Но Горшенина Брахин не принимал за старого большевика. У Дедки на все была своя особая мерка, брахинская, и всему вел он свой особый счет.
Бывают такие глубины сознания, в которые не всегда решается заглянуть даже правдивый человек. Очень этого боялся Потап Брахин. Был он резок со всеми, всегда колючий, злой, неприступный, но лежало в нем такое, в чем он не решался разобраться, потому что с этого мог начаться строжайший суд над ним, человеком, опускавшимся все ниже и ниже.
И все же наступали минуты, когда подавал свой голос его судья, и судья — как не хотел этого Брахин! — был похож и лицом и голосом на Родиона Бурова.
И судья напоминал Брахину:
— Потап, был ты сто́ящим человеком до семнадцатого года. И тут ты сам подвел черту под тем, что мы ценили в тебе. А потом ты сразу измельчал, злобно измельчал, Потап. И ничего уже не прибавил к себе. Почему? Понял ли ты наконец?
Если такая минута наступала ночью, Брахин вскакивал, зажигал огонь, ходил из угла в угол, злобно морща лицо в усмешке, и уж не уснуть ему было без стакана водки.
Жила в нем сатанинская гордость, и она-то мешала ему сознаться в том, что безнадежно отстал он от тех, с кем встретил семнадцатый год, и что он мстит им за свою серость, за то, что стал бесполезным человеком. Одно усилие воли, только одно усилие, которое поднимет его и над злобой, и над полным дурманом, и он поймет, Брахин, что осуждают его справедливо, он увидит, что молодежь смеется над ним. Брахинская гордость мешает этому усилию, ничего он не увидит в последние годы жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: