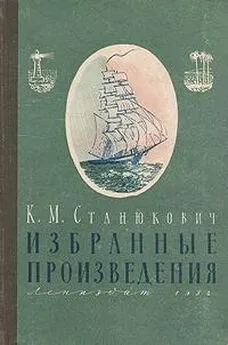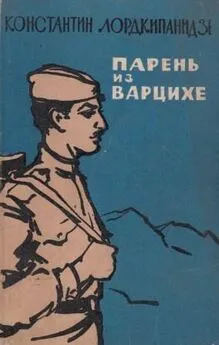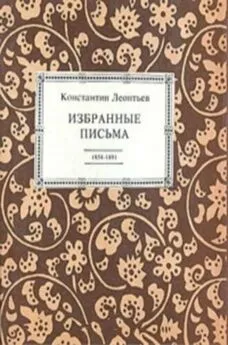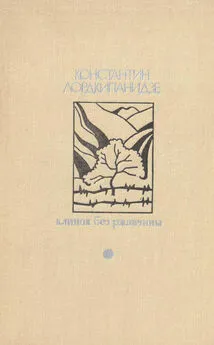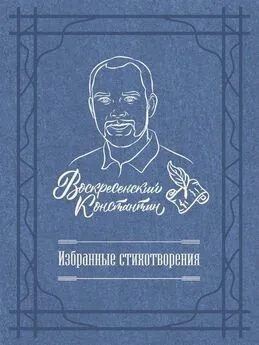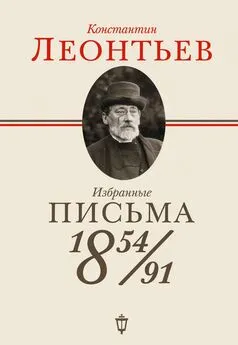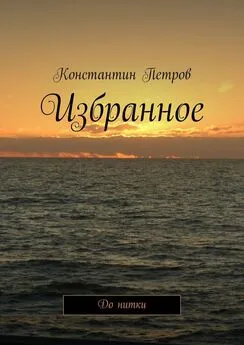Константин Лордкипанидзе - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Лордкипанидзе - Избранное краткое содержание
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такая же судьба постигла многие села горной Грузии. Опустели земли Рача, Лечхуми, Пшав-Хевсурети.
В «Летописи Картли» совершенно ясно означено, что Бахтрионская битва 1659 года произошла из-за зимних пастбищ Шираки. Шираки — это овцы и коровы. А мечи рубили лучше и крепости были неприступней у тех, у кого было больше овец и коров. Потому и было, что горцы не щадя жизни штурмовали крепостные стены Бахтриони. И воины, давшие клятву на верность, не знали покоя до тех пор, пока не разбили врага наголову.
И разве только в XVII веке! Не выпуская меча из рук, сражались грузины в горах и долах, чтобы не уступить врагу ни единой пяди земли.
Но с течением времени случилось неслыханное — горец, души не чаявший в Шираки, вдруг обрек его на такой стих:
Будь ты проклят, Шираки,
Поглоти тебя море,
Нет, не видеть мне радости
В жизни мгновенной моей,
Зачем я сюда пришел,
Зачем не умер в горах,
Схоронили б меня со братьями
На родимой земле!
Из груди моей вырвался стон:
— Повинна моя головушка. —
Вместо веселья и радости
Слезы все льются из глаз.
Орлы теперь свили гнезда
В Пшави — моем гнездовье.
По обычаю дедов,
В горы подался я.
Минуло лето красное
В стонах и причитаниях.
Будь ты проклят, Шираки,
Поглоти тебя море!
Что вынудило горца произнести столь страшные, столь адские проклятия, что так безгранично взбудоражило и растравило его душу!
Разрушение гнездовья.
Горцу разрушили очаг, и теперь он горько клянет тот самый Шираки, к которому относился раньше с такой любовью.
Перелистаем летопись. Вспомним взаимосвязи гор и долин. Они всегда были неразделимы, как волы в одной упряжке. Никого не удивляло и ничему не вредило, что иные горцы спускались в долину, ибо основное население горных деревень годами не уменьшалось. Это было совершенно естественным явлением, и потому поддержал великий Важа Пшавела переселение горцев в Шираки.
В долине умер великий певец. Перед смертью мерещилась ему родниковая вода пшавских скал. Сгорая от жары на больничной койке, он молил друзей: — Заверните меня в кленовые листья, и я мигом излечусь…
Кто поверит, что такой человек споспешествовал бы опустошению горной Грузии. Но нарушилось это естественное течение и равновесие жизни и истории, нарушилось из-за одной роковой ошибки. Вместо того, чтобы провозгласить древнейшую мудрость:
Горам воздай горово,
Долинам — долиново.
И вкусишь благодать
Святого креста…
Мы пошли другим путем: долине-то воздалось долиново, а вот гор, затерянных в бездорожье, все еще не достигли блага нашего времени, все еще не в должной мере включились горы в круговорот той великой жизни, которой живет вся наша страна. К сожалению, иные руководители республики избрали весьма странный способ для разрешения задачи, которой был озабочен грузинский народ. К горам подогнали целый караван грузовиков и горские семьи принудительно свезли в долину. Правда, в долине их окружили вниманием и заботой, однако бесчисленные пастбища, бескрайние пахотные земли обезлюдели и лишились хозяина. Окиньте взором наши горы: словно привидения, мелькают там и сям одинокие старики и старухи.
А теперь вспомните слова черемца Шакро Барбакадзе: «И кто мы в долине! Пустые рубахи да полые брюки! Наши тела и души остались на склонах Гомбори…»
Скольких пастбищ лишилась страна, скольких овец и коров недосчиталось наше сельское хозяйство, у скольких людей располовинилась потребность к труду из-за этих необдуманно поспешных кампаний, из-за этих искусственных пересадок да внедрений. Даже в долине редко встретишь такие тучные пастбища, каких полным-полно в Тушети и Пшав-Хевсурети, на склонах Гомбори, в Боржомском и Торском ущельях, на Аджаро-Абхазских хребтах.
Нет большего греха на свете, нежели оставить без людей, без радости такие угодья…
Безлюдная земля бесплодна, как яловая корова…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На наше счастье, на криво подкованного скакуна нашелся кузнец-умелец. Времена изменились. Сменились и те, в чьих руках были судьбы людские. Человек предполагал, но бог уже не располагал, ибо у обоих — и у бога, и у человека — появились одинаковые заботы.
Я довольно долго прожил в Гурджаани. Не осталось почти ни одного селения, где бы мне не довелось побывать хотя бы по нескольку раз, чтобы приобщиться к их горестям и радостям.
Одна цифра напомнила мне Имерети.
Плохо напомнила.
Я глазам своим не поверил, когда мне показали один документ.
«Еще три года назад в Гурджаанском районе на девятнадцать дворов приходилась одна корова».
Девятнадцать дворов и одна корова!
А теперь мне хочется начать несколько издалека.
В конце семидесятых годов я много ездил по селам Западной Грузии. Одно обстоятельство больно поразило меня в самое сердце, и я не могу молчать.
Детство и юность я провел в имеретинской деревне. До сих пор стоит перед глазами старая усадьба имеретинского крестьянина. Как бы ни нуждался мой земляк, если не две, то хотя бы одна дойная корова все же мычала у него во дворе. Были у него козы и свиньи, а домашней птицы — не счесть. Теперь же, когда я прошелся мимо сельских дворов, стало мне, честно говоря, обидно. Дворы были почти пусты. Коров и свиней днем с огнем не сыскать, домашней птицы заметно поубавилось, нигде было не видать и острых козьих рожек — ни во дворе, ни в зарослях кустарника. Зато вместо коров во дворах урчали красно-желтые «Жигули», а вместо запаха молока и сыра повсюду витали ароматы бензина и тавота. Поверьте, мне хорошо известны блага и выгоды, доставляемые автомобилем, но одно надо сказать прямо: автомобиль не должен вытеснить корову с крестьянского двора. Может, кое-кому слова мои покажутся некоторым преувеличением. Не торопитесь, давайте повнимательней присмотримся к кривой дороге, по которой пошли многие имеретинские крестьяне и которая норовит превратить крестьянина-производителя только в потребителя. На рассвете сядет он в машину, приедет в город и ну покупать мясо и молоко, хлеб и сыр — одним словом, все то, что должен производить и продавать он сам. Неблаговидному этому явлению способствовало, в первую голову, то обстоятельство, что в свое время руководители села повернулись спиной к приусадебному хозяйству крестьянина, не сумев оценить в полной мере его силу и полезность. Сельские пастбища были сплошь перепаханы, и коровам с крестьянского двора не осталось места даже хвостом взмахнуть. Корова, испокон веку бывшая кормилицей семьи, скоро превратилась в иждивенку и обузу, ибо ее содержание и уход за ней были себе дороже. Хорошо отлаженное личное хозяйство переродит колхозника и оторвет его от коллектива, твердили иные и укорачивали узду всему, что могло способствовать развитию подсобного хозяйства. Годы обновления вконец выбили почву из-под ног у этой куцей мудрости. Компартия Грузии уже вынесла постановление о развитии приусадебного животноводства. И в тех селах, где поступили разумно, выделили пастбища для скота, не пожалели сена и соломы, в тех селах, повторяю, положение в корне изменилось. Внимательно изучив многие личные хозяйства колхозников, я лишний раз убедился в том, что у тех, у кого были высокоудойные коровы, хорошо ухоженные огороды и бахчи, а наседки сидели на яйцах, да, именно у тех колхозников было записано больше всех трудодней в трудовой книжке и больше всех орденов и медалей сверкало на груди. Глубоко заблуждается тот, кто думает, что крестьянская усадьба тормозит движение вперед общественного хозяйства. Дополняя и укрепляя друг друга, они делают одно и то же дело — создают народное благосостояние, обилие и богатство. Поэтому, чем больше домашнего скота и птицы будут иметь колхозники и рабочие совхозов на своих приусадебных участках, тем обильней будет стол грузинской семьи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: