Владислав Владимиров - Закон Бернулли
- Название:Закон Бернулли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Владимиров - Закон Бернулли краткое содержание
Литературно-художественные, публицистические и критические произведения Владислава Владимирова печатались в журналах «Простор», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение» и др. В 1976 году «Советский писатель» издал его книгу «Революцией призванный», посвященную проблемам современного историко-революционного романа.
Закон Бернулли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Странно смотреть на нее: и как попала она сюда, большеглазая, стройная, гибкая, похожая в тонком красном джемпере в обтяжку и синей мини-юбке на изящную балеринку с красивыми круглыми коленями, чуть замотанную жизнью и по случайному любопытству присевшую на минутку за этот громоздкий стол. Но все это обманчиво, как и плоская двусмыслица, вычитанная Неей в «юморной» рубрике курортной газетенки: «Всякой балерине нужна поддержка». Усидчивости Ритке не занимать и трезвой рассудительности тоже.
Тем временем Мэм, всегда равнодушная к любым ухищрениям косметики, с хрустом заложила чистый лист бумаги в каретку электрической «Оптимы» и призадумалась. Приятное у Мэм лицо, хотя и чуть чиновничье — заметный, но не вызывающий оттенок неприступности и вместе с тем неугодливой готовности помочь, если будет надо. Посетители по первому разу с ходу обращаются к ней как к старшей, пытаясь скрытой лестью пробудить искомое «надо». Мэм к этому уже привыкла. О прочитанном она судит категорично: «Здесь больше геометрии, чем настоящей прозы!» Халтурные путевые заметки Мэм называет литературой дорожной котомки, бездарных сочинителей пьес с кулинарными рецептами как жить праведно — драмоделами, дрянные стихи — помесью акафиста и докладной записки, серьезную критику вещей, явно ее недостойных, — ненужным излишеством, равносильным старательному преподаванию санскрита, астрономии или древнегреческого на краткосрочных курсах сантехников.
Нея знает: Мэм не может слушать спокойно песни военных лет и о войне — перехватит левой рукой правую под худенький локоток, правой подопрет подбородок, закроет глаза и крепится, чтобы не заплакать.
Безоговорочной бывает Мэм не только к прочитанному. «Не могу, — заявила она недавно, — видеть врачей, работающих официантами, или агрономов, торгующих газированной водой, или еще кого, кто не по специальности. Такое явление должно запрещаться Конституцией. Нельзя так: либо счастье, либо совесть!»
«А я — по специальности? — хотела спросить Нея у Мэм. — А Ритка? А Бинда?», но удержалась, ибо Мэм непременно попросила бы ее не путать божий дар с яичницей: Мэм свято верила, в отличие от Неи, в особое предназначение их конторы и отстаивала свое мнение решительно.
Нея с Мэм при уклончивом нейтралитете Ритки Вязовой не соглашалась, заявляя, что плохие люди, как правило, приличных книг не читают, а учить в наше время хороших людей любить настоящую литературу — это почти то же самое, что учить человека дышать или рыбу плавать.
Но разговоры эти их редко ссорили, потому что велись без притворства и касались не только их б ю р о, а со всей откровенностью становились исповедями; может быть, о самом-самом главном, когда ты делаешься ответственной за все, за все в стране и даже мире.
И тогда стены дворцовой комнаты сказочно раздвигались, и виделась им необъятной вся громадная наша земля. Начиналась она, конечно, со звонкой брусчатки самой Главной площади и потом, будто в гигантском калейдоскопе, проходили несуетливо перед ними знакомые по тысячам фотографий и кинофильмов и все-таки каждый раз волнующие виды стартовых площадок Байконура и сугубо деловые, с нефтяными вышками — Каспий и Тюмень, величественные белокаменные соборы старой Руси и журнальные снимки новых каналов в знойных песках Туркменистана, узбекских плантаций хлопка, верениц комбайнов на целинных землях. И, наверное, умещалось все в этом расчудесном калейдоскопе, о чем они слышали и знали и к чему никогда не были равнодушны, — были тут и окованные серебром древние фолианты Матенадарана, и таинственные запасники Эрмитажа, неоглядная ширь молдавских виноградников, серебристый отблеск белых куполов Пулковской обсерватории, прокаленные сибирскими морозами стальные рельсы новой магистрали, уходящей через вековую тайгу к далекому Амуру, овеянные партизанскими легендами белорусские леса, пограничные дозоры на Даманском и Жаланашколе, белокурые латвийские рыбаки в мокрых штормовках, кряжистые бородачи из экипажа ледокола «Арктика», красногалстучная ребятня «Артека» и степенные долгожители горных долин, бодро изъясняющиеся с телеэкранов уже не с кавказским, а с неким научно-газетным акцентом от частных общений с пытливыми геронтологами и дотошными корреспондентами, среди которых еще не водилось человека, безразличного к самому существенному секрету долголетия — не пьет ли современник Лермонтова и Одоевского сухое виноградное вино, а если пьет, то не закусывает ли он его козьим сыром.
И, как положено среди наших людей, разговор неизбежно переключался на международные события и на большие п е р е г о в о р ы, в которых — и они это хорошо усвоили от начальства, немало гордившегося оным обстоятельством, — участвует их земляк, близкий знакомый профессора Иванова-старшего Усманов; словом, не было на планете уголка, который не просматривался бы вдоль и поперек из их дворцовой комнаты не просто любопытства ради, а с вполне точным, конкретным желанием видеть всех простых людей только в мире и счастье, как далеко они ни жили бы отсюда.
И счастливая мысль воспаряла надо всем этим — как мы богаты всем замечательным, что есть в этой жизни, и мысль эта перебивалась другой справедливой мыслью о том, что Жизнь не столь длинна, чтобы ее можно было бы поганить бесчестием и крохоборством, корыстью и завистью. И дух захватывало от великодушных и счастливых сопереживаний, от высокого чувства слиянности со всем лучшим, что дарит человеку глубокая осознанность кровного родства с большой страной, раскинувшейся на одну шестую земного шара, и разом куда-то и надолго исчезали прилипчивые суетные мелочи бытия, неисчислимые житейские заботы, и думалось, что их во много крат станет меньше, если к а ж д ы й хорошо будет знать — г д е, в какой стране и в к а к о е время и ч е г о р а д и он живет.
Когда в детстве дома говорили о светлом будущем, Нея представляла его по-разному. В это светлое будущее радостью вписывались хлебные караваи с хрустящей румяной корочкой, пузатые кринки топленого молока, настольные игры в больших картонных коробках, красивые книжки с разноцветными картинками, буйно цветущие по весне яблоневые сады хозяйств местного сушкомбината, находилось в этом светлом будущем место для соседского фильмоскопа, который аптекарский сынок ленивый Кузьма Слежнев торжественно извлекал из черного фанерного футляра, чтобы показать одногодкам, за гривенник с каждого, диафильмы на густо выбеленной для этих сеансов стенке коровника — «Синдбад-мореход», «Чук и Гек» или трофейные диафильмы о невероятных похождениях Синей Бороды. За просмотр Кузьма набирал по рублю и больше, он копил на новый велосипед, но его родители делали вид, что ничего не знают. И велосипеду с никелированной фарой, настоящей «динамкой» и безотказным ручным тормозом тоже находилось место, но почему-то в этом светлом будущем Нея никуда не могла пристроить неказистые плетни и куцые огородики, кизячные пирамиды во дворах соседей, шумливый базарчик возле заброшенной церквушки, тихих баптистов с улицы Юннатов, громогласного судебного исполнителя Кокушкина, саманные крыши окраинных домов поселка и глубокие ямы у новых домов на берегу полуречушки-полуручья. Летом эти ямы заполнялись водой, вода мгновенно желтела и оставалась потом мутной, но в ней купалось отрадно, потому что она была теплее, чем в ручье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
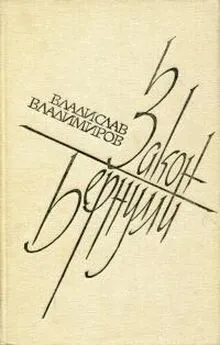




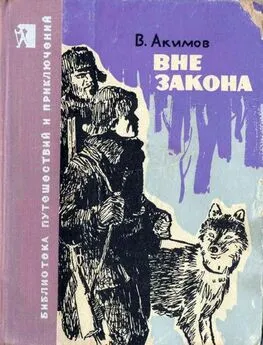


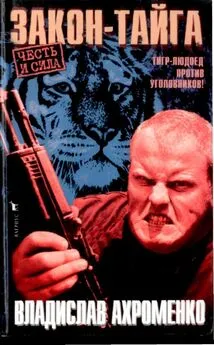
![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/1100657/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si.webp)