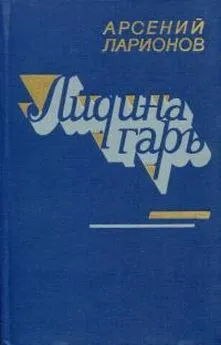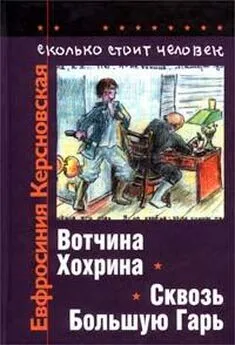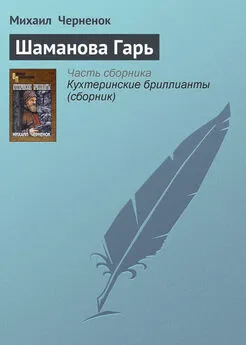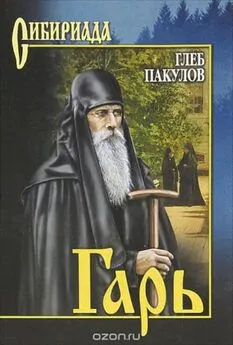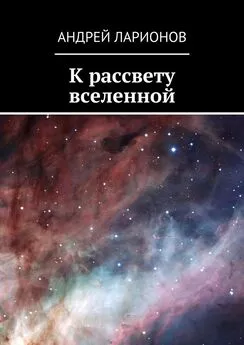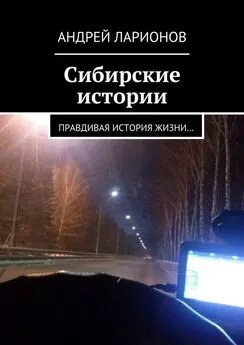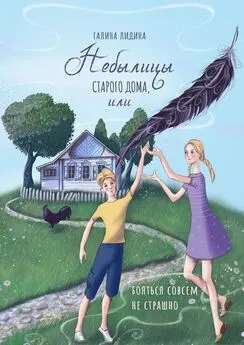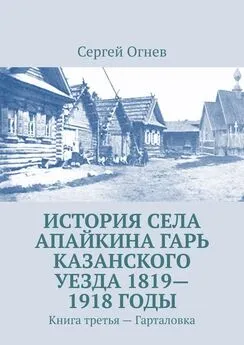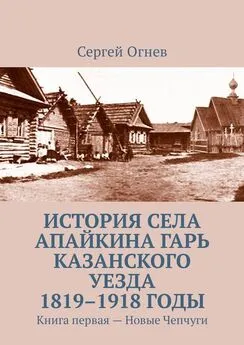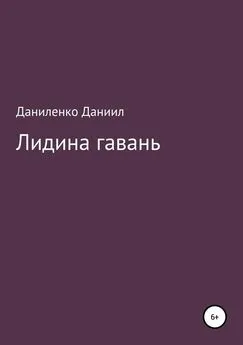Арсений Ларионов - Лидина гарь
- Название:Лидина гарь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Ларионов - Лидина гарь краткое содержание
Лидина гарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А в мыслях все вел спор. Он никак не мог согласиться со старцем из Цильмы, что мученические страдания Аввакума и его смерть на костре во имя истинной веры ставят протопопа выше Христа. Михаил Игнатьевич не считал себя религиозным, набожным человеком. Северяне такой неистовостью вообще не отличались. Многие, скорее, скрыто были против церкви. В жизни их много места занимала природа. И бог больше являлся не в образе Христа, а в образе природы. И как сама природа, его действия были неожиданны, непредсказуемы и удивительны. Этим Михаил Игнатьевич не отличался от других, но ценил Библию, как собрание человеческой мудрости. И не разделял язвительных колкостей и скептических замечаний Селивёрста Павловича о библейских изречениях и легендах.
В этом внутреннем споре с Селивёрстом Павловичем, старцем из Цильмы и Шенберевым шли дни, и на какое-то время отступило беспокойство, неуемная тоска, которые мучали его. Он вновь, как много лет назад, почувствовал, что у него во всем пропал интерес к жизни. Тогда, в двадцатых годах, ему помог Егор Кузьмич. Он почему-то уловил скользящее падение его души, его жуткое состояние, понял, что его снедает тупая, безысходная тоска, и подсказал выход: пуститься в бега, пойти по Земле пешком. Поначалу он опешил, услышав совет Егора Кузьмича, но со временем, не находя успокоения, принял его и пошел по России. И к нему, действительно, вернулось душевное равновесие.
Работая с Мичуриным, он вновь увлекся жизнью, почувствовал азарт и цель… Тогда и пришло желание вернуться домой… Если бы не война, возможно, думал он, ему бы удалось вырастить яблоки и в Лышегорье. Но силы и запал с годами ушли, все оставалось лишь в намереньях. Иногда ему казалось, что мысль человеческая — дело совершенно несбыточное. Задумано хорошо, высоко, красиво, а глядь, и что-то точит, точит изнутри… Ведь какая замечательная мысль: люди созданы любить друг друга. Ан нет, до любви бывает дальше, чем до Луны. Он тоскливо улыбнулся, понимая, как он небережлив, как скор на затею… Та же коммуна. Ведь как он загорелся, как сердился, споря с неверами, а остыл раньше других… Или жену свою в молодости как любил, как нежил, на руках носил, а сбежал и от нее, и от ребят.
Уж столько лет прошло после возвращения, и опять зимами живет на Нобе, только чтобы ее не видеть, до того она стала ему ненавистна. И почему это с ним происходит, он и сам себе объяснить не мог. Что за болезнь в нем такая сидела, что за неприязнь ко всему, он никак не мог разобраться.
Однажды только Марфа-пыка ему правду сказала, будто огнем сердце прожгла: «По ошибке ты, Миша, на свет белый попал, вот и маешься, сам себе утешение или смерть ищешь, никак не разберусь». Он тогда, скрывая признание, грубостью ответил: «У тебя, Марфа, на все черный глаз…» А она опять же спокойно: «Ты, Миша, все ж немножко п-по-побаивайся смерти, остерегайся п-п-подолгу один жить, она с тобой п-пэ-п-плохую игру ведет…» — «Кто она?» — «Да известное дело, лешак ты эдакий, смерть-матушка…»
Сколько лет уж прошло, разговор этот был еще до войны, а он его забыть не мог, поражаясь, как Марфа сумела открыть его душевную маету. Но тогда еще тупая тоска и равнодушие к жизни не преследовали его постоянно. А теперь будто все вернулось обратно, как было в конце двадцатых годов, нигде он не находил покоя. И скрывать свое состоянье было уже тяжелее, годы не те, и он каждой осенью с большим нетерпением ждал, когда сможет уйти из деревни на зимнюю охоту…
Но оставшись один, облегчения не почувствовал, что-то внутри разъедало его, беспокоило, мысли о жизни надвигались отяжелевшей тучей. «Ради чего я жил? Что сделал? Может, права Марфа, что я по ошибке на свете оказался? А все, кто являются в этот земной мир, разве подобного чувства не испытывают? Но почему же тогда надо мучиться мне? — Но утешения он совсем не чувствовал. И еще настойчивее тиранил себя. — Не хочется быть травой, что умирает вместе с каждой осенью. Но ведь я и — трава. К чему лукавство… Устал от жизни?! Ближе к истине… Устал». Он чувствовал обострившуюся нервозность, нетерпимость. Дома все его раздражало. А с Тимохой в любой момент готов был на кулаках схватиться. Опять же этой осенью пару раз стрелял солью из ружья по ребятишкам, что ползали в колхозный огород за морковкой. «Много ли эти голодные воробьи унесут, — потом сокрушался он, — одну-две маркушки. А я по ним из ружья. Сущая собака стал, злая дворняга… Беда-беда мне, будто война ничему не научила. По голодным — из ружья!» И клял себя последними словами, но понять до конца, почему он это делал, не мог, и не мог объяснить причину своего внутреннего расстройства. «А ведь я с отцами этих, ребятишек коммуну начинал, кусок скромный равно на всех делил, их, молодых тогда, добру учил… Теперь они в поле сыром лежат, в земле дальней, считая, что дома Михаил Игнатьевич остался, он добрый и робяшей их не обидит. А я что творю?! Как Евдокимиха стал, по ее научению с ружьем против робяшей бегаю… Нет, брат-Мичуря, не в ту степь ты полез. Не туда ум и смысл дела коммунистического направил…»
И чем больше он в себя погружался, тем ненавистнее ему был человек, живущий под именем Михаила Игнатьевича. Он перебирал в памяти дни дальние и уж в который раз возвращался к одной и той же истории. Было это на Каме, в глухом таежном селе. Он сдружился с мужиком, пылким, взрывчатым, как и он, убежденным в идее коммунистической неистово, до разрыва сердца. Когда в село пришел Михаил Игнатьевич, о коммуне тут только слышали, но большого, ясного понятия о ней не имели. Он взялся за агитацию и скоро сошелся со своим единодумом, Макарием Савватьевичем. Переселился к нему в дом. Жили они душа в душу, как родные братья, один стих в два пера писали, в честь величайшего душевного доверия друг другу. Зимой, где-то под Новый год, собрались на свое первое собрание будущие коммунары… Михаил Игнатьевич выступил, рассказал о лышегорской коммуне, о кулойской, пинежской, двинской, где сам бывал и сам видел. Говорил бойко, норовисто, красиво. Ему нравилось учить, он увлекся, пересыпая речь поэтическими фразами и стихами собственного сочинения. Речь затянулась и скорее была похожа на лекцию заезжего пропагандиста, но это его не смущало, ему нравилось, что его слушали, и он продолжал велеречиво описывать красоты предстоящей жизни… И чувствовал, что еще не иссяк, когда его неожиданно перебил настырный старичок: «Родименький, — спросил он лукаво, — а хоть до осени-то с нами доживешь? Аль, поди, дальше пойдешь погремушкой своей трясти…» У него будто жара спала, азарт прошел и слова пропали. Он вдруг стушевался, речь оборвал на полуслове и примостился на стул. Тут же вскочил Макарий Савватьевич и друга в обиду не дал. Запальчиво шумнул про звонкоголосых мужественных поэтов, пробуждающих от спячки край зырянский. Народ одобрительно загудел, а кто-то крикнул: «Макарка, валяй стихом, величай гостя!» После речи Макария Савватьевича, начался опрос, кто готов записаться в коммуну. И опять все шло хорошо, пока не наступил черед жены Макария Савватьевича, молчаливой, сухопарой женщины, годами, может, и постарше мужа. Она и испортила весь праздничный ход, заявив, что в коммуну вступать не будет и не даст мужу ни одной плошки, ни одной животины на общий двор не приведет. Макарий Савватьевич от неожиданности чуть с лавки не свалился, клюнув вперед. А женушка его повернулась и из избы вышла. Народ почему-то сразу же всей затее сомнение выразил, мол, Макарка, ты давай дома договорись, тогда и обществом двигать будем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: