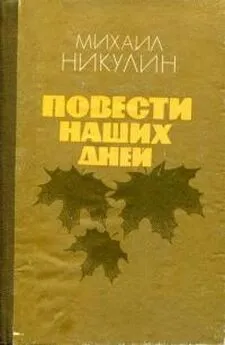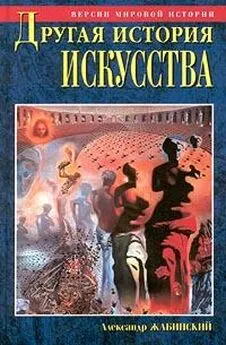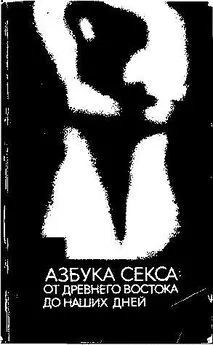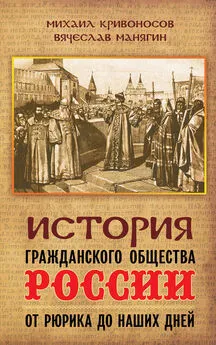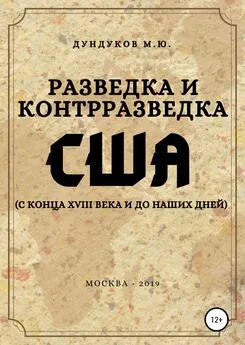Михаил Никулин - Повести наших дней
- Название:Повести наших дней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Никулин - Повести наших дней краткое содержание
Повести «Полая вода» и «Малые огни» возвращают читателя к событиям на Дону в годы коллективизации. Повесть «А журавли кликали весну!» — о трудных днях начала Великой Отечественной войны. «Погожая осень» — о собирателе донских песен Листопадове.
Повести наших дней - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Семка Бобин, а может, я тебя зря перевязал? Ты же та самая сволочь, с какой я минуту назад был в смертельной схватке?
— Был. Я бы опять с тобой… Да негож… Заживет рана, тогда другое дело. Тогда полностью выскажемся один другому. Перед дракой выскажемся.
В этих словах Бобина легко было уловить оттенок злой угрозы.
Огрызков тоже с угрозой заметил ему:
— Выскажемся и — в бой!
Вторую половину этого дня они шли молча. Бобин иногда стонал. Его вещевая сумка теперь висела на левом плече. Спина перекашивалась, ныла. Шли стороной от дороги и не всегда по проторенному пути. Бобин спотыкался. Злее и громче стонал. Начинал отставать.
И тогда Огрызков, для которого дорога была куда легче, объявлял вроде самому себе:
— Ноги мои притомились. Просят передышки, — и устало опускался на землю.
Бобин, не говоря ни слова, следовал его примеру. Сидели на почтительном расстоянии.
Огрызков жестоко критиковал самого себя: «А все-таки я — д у н д у к! Ну самый настоящий д у н д у к! Семке Бобину пошел в услужение! Делаю ему перевязку, а чтобы облегчить его положение в дороге, притворяюсь, брешу. Дескать, нет моей мочи идти дальше, ноги просят передышки!.. Даю ему отдых, а сам в нем не нуждаюсь. Чем он заслужил внимание и сочувствие?.. Помню, и в мальчишеские года, и в годы колхозного построения, и на лесорубке, и теперь в дороге он всегда был сволочь сволочью».
Проходит минута-другая — и Огрызков пытается оправдать себя: «Ну не быть же мне такой же сволочью, как он».
И невольно вспомнил слова своего наставника — фельдшера Якова Максимовича Прибыткова: «Тит Ефимович Огрызков, теперь тебе надо помнить, что ты санитар, а стало быть, в известном смысле медик. И, как медик, ты строго должен держаться правила: попал человек в беду по несчастному случаю, по военным обстоятельствам или даже потому, что сам по злобе хотел зарезать то ли мужчину, то ли женщину, а получил сдачи нож в спину или в другое место… И вот доставляют такого к медикам, то есть к нам. Есть врач — он в ответе за его жизнь. Нет врача — я, то есть Яков Максимович, становлюсь на командный пост… А уж если ни меня, ни медсестры нет, то быть старшим по медицинской части тебе, санитар Огрызков! А наказывать виновного, во-первых, — не наше дело, а во-вторых, прежде чем наказывать человека, надо его вылечить. Неспроста люди сложили поговорку: «Лежачего не бьют». А раненый — он и есть лежачий».
Вспомнил Огрызков, что именно после этих наставлений Яков Максимович велел ему, уходившему через несколько дней на волю, ближе к родным краям, захватить с собой несколько бинтов, йод, дезинфицирующих присыпок, самых необходимых таблеток… «Вес пустячный, а в дороге все это может пригодиться. Не обязательно лично тебе… Повторяю — ты медик, санитар. В нашей профессии ты стоишь под четвертым номером: профессор, врач, медсестра — и рядом с ней ты, санитар».
Вспоминал Огрызков о Якове Максимовиче с теплой благодарностью. Он полюбил этого человека прежде всего за то, что тот считал нужным изгонять из душ людей и унылость, и мелочную озлобленность. Он говорил, что унылый и мелочно озлобленный живет, как в густом тумане, и о жизни имеет туманное понятие.
Удивительно легко было Огрызкову слушать фельдшера. Тит Ефимович слушал его и чувствовал, будто у него медленно, но ощутимо вырастали крылья, и в понятии о себе он становился выше, дальше видел и увереннее ждал завтрашнего дня… И вдруг преградой на его пути стали фашисты. Они уже захватили большие пространства и как-то сразу по его понятиям заузили Родину…
И тут Огрызков опять вспомнил Якова Максимовича, вспомнил, как он в свободные часы, приоткрыв дверь барака, звал его в медпункт и по дороге, с трудом подавляя тихую радость, говорил:
— Нынче нам по радио будет петь Он…
Огрызков уже знал, кто это — «он».
И через какие-то десять — пятнадцать минут они уже слушали, как чистый мужской голос, и вроде не сильный, но невыразимо глубокий, доносил до них слова песни с такой ясностью, будто сам певец был тут, вместе с ними в комнатке медпункта, и словно он не пел, а говорил:
Соловей мой, соловейка, птица малая лесная,
У тебя ли, соловейка, незабвенные три песни…
Фельдшер шептал рядом сидящему Огрызкову:
— Его соловей не станет чьей-то собственностью. Он поет для каждого, каждому на душевную потребность. Вот слушай, дорогой Тит Ефимович, как он дальше поведет:
У меня, у молодца, три великие заботушки…
— Его соловейка сейчас молчит. Он может слушать жалобы обиженного и затосковавшего человека. А человек сильно обижен. Этого молодца рано женили. А стало быть, женили по неволе. А если и ворон конь у молодца притомился, и еще злые люди с красной девицей его разлучили, то что ему остается?.. Слушай, слушай, — продолжал еще тише шептать Яков Максимович.
Выкопайте мне могилу серед степи широкой…
В этом месте песни голос великого певца набирал могучую силу. Казалось, его сила раздвигала стены медпункта и разливалась по беспредельно широким просторам.
Фельдшер доставал платок, хотя блестевшие восхищением глаза его оставались сухими, и продолжал шептать Огрызкову:
— А теперь он, мо́лодец, уже с наказом ко всем добрым людям, но не к тем, кто сделал жизнь его невыносимой. Он наказывает, чтобы в головах его могилы посадили цветы, а к ногам провели бы чистую воду ключевую… Мо́лодец и после смерти хочет быть нужным хорошим людям.
…И песня умерла… Нет, не умерла — она будто растворилась в безграничных просторах вместе с голосом артиста, но продолжала жить в сердцах тех, кто ее слушал.
В медпункте долго не говорили ни слова. Улыбнувшись, Яков Максимович тогда сказал, поднося платок к сухим глазам:
— Ты, Тит Ефимович, пошел против колхоза. Держался за хвост своего быка. Думал, в этом весь смысл жизни… Про такого хорошей песни не сложили и не сложат… Да такую, если бы и сложили, Он не будет петь. Такая песня недостойна Его.
Яков Максимович незлобиво посмеивался.
Огрызков помнит, что именно в эти минуты он вдруг пережил острую обиду на Якова Максимовича. Он с пристрастием обиженного спросил фельдшера:
— А вы соображаете, что годы прошли с тех пор, когда я держался за хвост собственной скотиняки?! И уж если на то пошло, то вы, Яков Максимович, тоже за что-то неположенное держались?! Иначе сюда не попали бы!.. О моей виновности вы часто заводите разговор, а о своей — ни слова!
Помнит Тит Огрызков: именно тогда поведал ему Яков Максимович, что и у него был хвост, только не бычий, а куда более коварный. Назывался этот «хвост» — Матреной, Мотей…
— Недолгое время Мотя была моей законной женой. И любил же я ее! Как любил!.. Но ей стало скучно, и она сказала: «Невелика мне награда от твоей любви: пустое мечтанье, красивый сон, что никогда не сбывается. Во сне я мчусь на машине. Мчусь как птица. Зеленые луга, голубые озера и море — все вокруг меня, все перед моими глазами… А проснусь — ничего этого передо мной. А рядом в постели — ты и, как всегда, тянешься обнять… Скукота…» А я ей: «Мотя, ну что еще тебе надо?.. Мы же на пятом курсе, вот-вот станем врачами. Мы договорились, что люди счастливы, если они заняты любимым делом, полезным и нужным для других. И совсем замечательно, если эти двое с полслова понимают один другого…» Она сразу же возразила: «С некоторых пор я думаю иначе». Спрашиваю: «Как же ты теперь думаешь?» Она ко мне тоже с вопросом: «Ты считаешь меня очень красивой?» — «Конечно, считаю!» — «А ты знаешь, меня и другие считают такой?» Говорю ей: «Наверное, считают. Глаза-то им не повырезали… видят». Она опять ко мне с вопросом: «Ты понимаешь, что за дорогое надо платить дороже?» Я и вытаращил глаза на нее: «Но ты же не товар… Ты — женщина, человек!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: