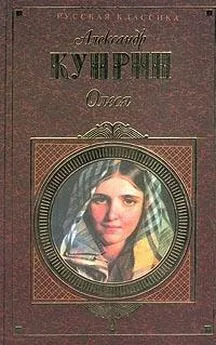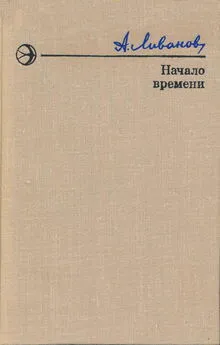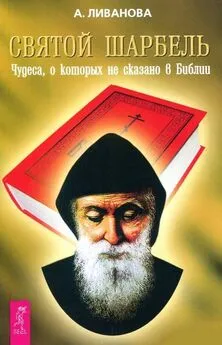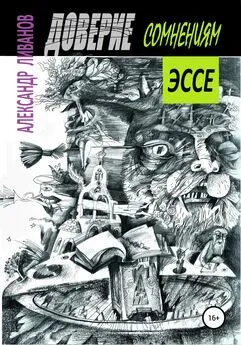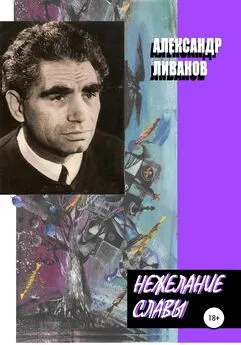Александр Ливанов - Притча о встречном
- Название:Притча о встречном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00580-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ливанов - Притча о встречном краткое содержание
Притча о встречном - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Музыка мира — едина, не делится она на «шум» и «мелодию», на хаотичную и гармоничную. Гром вещает грозу, шум ветра знаменует непогоду, встретив перекат, река бурлит, окликается гулом. Вся природа, «живая» и «неживая», живет, и свидетельство этому — мир, наполненный музыкой. Искусство звукосочетаний, гармоничная музыка — «частный случай» всеобщей музыки мира, которая выражает первооснову и сущность бытия. Ведь и сам человек — «частный случай» необъятной природы. Есть целые миры, частоты звучаний которых вне нашего слуха!
Музыкальностью или немузыкальностью Блок определял все сущее в жизни. Победу изначальной музыки мира он видел в явлениях искусства, в творческих исканиях, в духовных устремлениях, в подвигах служения. «Музыкальность» у Блока — и высшая истинность!
Таким — высшим — проявлением музыки мира явилась для него Октябрьская революция, и он возгласил: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию»!
У каждого писателя, если он только подлинный художник слова, своя «музыка души». Она шире и значительней, чем все созданное этим писателем (поэтом). Все художественное наследие, каким бы оно ни было большим, не исчерпывает эту «музыку». Собственно, все, что было написано, — попытка выразить до конца «свою музыку». И мы как бы чувствуем — и то, что «выразилось», и то, что не успело себя выразить, ушло от нас… (Но живет в ноосфере — по академику Вернадскому!)
И все же ушло не бесследно. Звучание тут особое. Неслышимое, а все же — сущее! И всей жизни не хватает нам потом, чтоб «внятно» услышать неслышную, но сущую музыку души ушедшего от нас художника слова. И мы уже не знаем — откуда звучание, из чьей оно души? Из его, художника? из собственной? из народной? Из вечного духа жизни?..
Об этом единодушии — всепричастности в едином чувстве музыки художественного озарения, открытия в слове и звуке — хорошо сказано у Блока: «Достоевский провещал о Пушкине — и смолкнувшие слова его покоятся в душе».
Даже не «покоятся» — живут, продолжают созидать дух жизни!
Тут замечательно и то, что «его» не уточнено, равно как «в душе». Именно — единодушие! И поэта, и того, кто провещал, и читателя, наиболее далекого потомка!.. К слову сказать, какой блестящий стилистический образец, когда меньшее число слов, краткость, означает больший смысл и простор, когда неуточненность притяжательности означает большую точность для свободной мысли, означает богатство и щедрость ее! Благоговея, зрелый корректор не потянется за «грамматической вицей»!
Внутреннее чувство — единодушного чувства музыки творческой души, «из души в душу», — хоть и таинственно по природе своей, но тут нет ничего мистического. Мы говорим собеседнику: «Пушкин», «Гоголь», «Толстой» — и взволнованно, с замирающим сердцем ждем: вот-вот что-то необычное случится. И немного суеверно оно, вещее, духовное озарение!
Чего мы ждем от собеседника — знания? понимания?.. Нет, мы ждем сочувствования: Пушкина, Гоголя, Толстого. Так мы надеемся обрести друга. Что-то в сердце нашем угасает, не обнаружив в собеседнике — сочувствования. Музыка для кого-то — ничто (перефразировав известные стихи современного поэта Владимира Соколова «Спасибо, музыка…»).
Что-то, какую-то частность, из «музыки души» писателя мы можем все же «перевести» на общедоступный язык — слова. Например, неким умозрительным «соотношением» чисто «прозаического» и чисто «поэтического элементов в написанном. Ведь проза — главным образом жизнь в ее свободном, широком и реально ощутимом течении (этому учится у прозы поэзия). Поэзия же — уловление и выражение чувственно незримого, душевно-событийного по поводу всего реально-событийного в действительности (тому проза учится у поэзии).
И вот, оказывается, поэт Пушкин не только не помогает прозаику Пушкину, а проза его пишется как бы при «отсутствии» поэта («отослан», «ушел за вдохновением», на время «утерял право на рифму, на проказницу лукавую» и т. д.). И Пушкин-прозаик — «подчеркнутый прозаик». Он, кажется, даже хочет, чтоб его, прозаика, «не спутали» с вдохновенным лириком — поэтом! Проза, мол, дело серьезное, положительное, требующее «мыслей и мыслей», — не то что в стихах, где все делает одно «кипучее вдохновенье», где «рифмы легкие бегут», где «над вымыслом слезами обольюсь»… Что поделать, стихи и проза — «лед и пламень, волна и камень, не столь различны меж собой…»… Так думает «любезный читатель», Пушкин не оспаривает, оставляет его в наивном неведенье — о трудности каждого жанра, об условности самого деления на жанры. Слишком многого еще не знает наивный и любезный читатель. И пишет свою прозу Пушкин так, чтоб именно резко отличалась она от его поэзии, как лед и пламень. Но и помимо этих субстанций — все Пушкин!
Толстому поэтому даже долго будет казаться, что проза Пушкина «сухая», «голая», «без подробностей». Зато присущие пушкинской прозе достоинства Толстой обнаружит не сразу, после седьмого (!) прочтения ее, не сразу придет он в неописуемый восторг — «Пушкин мой отец!». Не сразу кинется Толстой писать об этом письма всем знакомым, тормоша, призывая, побуждая их своим энтузиазмом — «перечитайте прозу Пушкина!». «Ничем никогда я так не восхищался!»
Сам Толстой между тем — всю жизнь «воплощенный прозаик». Никаких «обольщений поэзией» (он даже относится к ней с некоей — сугубо толстовской — «подозрительностью»). Его «лирические отступления» — это «потоки увлекающегося сознания», хотя он непременно останавливает себя, когда пишет «не из сердца», а «из головы». Реалии действительности всегда предпочтены поэтической символике.
И это в то время, когда, скажем, у Гоголя и приметы действительности (будучи отраженными поэтической символикой), и сама поэтическая символика (так великолепно «материализовавшаяся» в приметах действительности) составляют единый сплав художественного мира писателя!
У Лермонтова поэт помогает прозаику — в пластичной краткости, в достижении психологической проникновенности характеров, в постижении потаенных дум души героя, в чувстве формы, которая даже Чехову казалась — непревзойденной, как, скажем, в «Тамани».
У Тургенева поэзия — средство внешней изобразительности. И, кажется, средства тут, больше позаимствованные готовыми у современной поэзии и, как всякое заимствование, часто становятся у него штампованной вторичностью. Между тем поэзия в прозе Достоевского и Чехова, резко отличающаяся у каждого, — своя, вырастающая из самой прозы, из ее художественности. Но еще много озарений здесь ждет исследователей…
Проза Гончарова… Та же, толстовская, ширь эпичности. Разве что сама река не столь полноводна, а главное, не столь обильная притоками. Не мировая река — река ландшафта, в живописных берегах национального. Нет здесь отступлений «рассудочной поэзии», как у Толстого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: