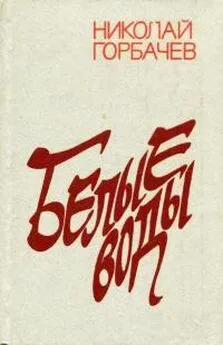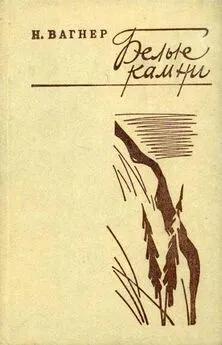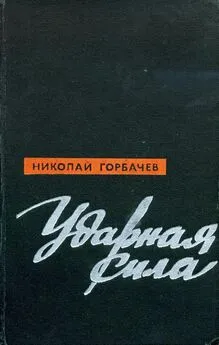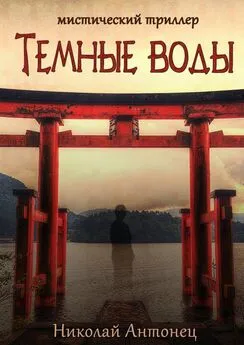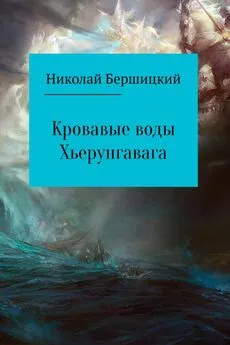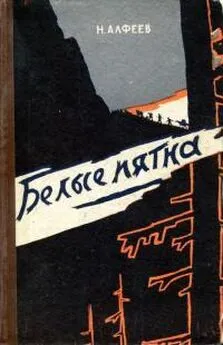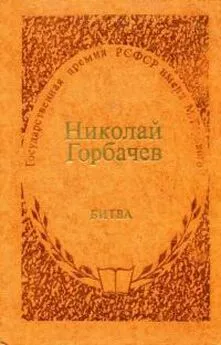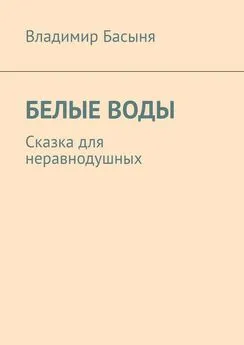Николай Горбачев - Белые воды
- Название:Белые воды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Горбачев - Белые воды краткое содержание
Белые воды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Немедленно доложите! Я еду туда, на свинцовый.
— Ладно, ладно!..
Положив трубку и сказав начальнику участка, вошедшему с ним в раскомандировку: «Козел» в ватержакетном цехе», Андрей пошел к выходу, мельком подумав, что самой судьбой было предопределено ему не попасть в бригаду Косачева.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Федор Пантелеевич перевез семью из Нарымского в Свинцовогорск в голодный двадцать девятый год. Юго-восточные суховеи в тот год обрушились, дули с китайской стороны кряду чуть ли не месяц, спекая богатые нарымские урожайные черноземы в бетонную корку, под которой пшеничные зерна, когда их находили, лежали мертвыми, непроросшими — сморщенные, угольные крошки. Даже кормилец и поилец Зайсан в тот год обмелел; осел, усох и Нарым, не водой — слезами вились его струйки по галечному, вскрывшемуся дну, жалкими бочажинками глядели его омута, еще недавно пугавшие своей стужистой бездонностью, рождавшие по нарымским селам одна другой страшнее легенды: то таймени хвостом сбивали зазевавшегося на берегу мужика, с тем и был он таков, то видели — «вот лопнуть глазам», — как «лешак-сомина» нежился на галечном мелководье, а в пасти — полугодовалый теленок… Гибли, трескались арыки — артерии, питавшие живой водой поля Принарымья: нечего было им брать от батюшки Нарыма.
С весны до самых этих суховеев, ударивших после сретенья, до тех страшных, прокатившихся над землей гроз — бездождевых, с ослепительными калеными вспышками, голодного лиха никто не предполагал, даже напротив, складывалось к уроду, к хлебу, поскольку зима была снежной, обильной и мягкой.
Недород, голодовка пали как раз на год, когда в Нарымском бурлили страсти: создавали первое товарищество «Партизан». Федора Пантелеевича знали: человек свой от самого малолетства на глазах у всех, и жил в Нарымском, и пастушничал с девяти лет, и на войну ушел отсюда, вернулся сюда же большевиком. В год белоказачьего восстания — в двадцатом, — скрученный малярией, по приказу ячейки прятался на дальней заимке, но разнюхали, схватили его, бросили в тюрьму. Полевой белоказачий суд вершил дела споро и однозначно: расстрел…
В ту ночь, на рассвете, когда обычно, будто по расписанию, белоказаки уводили очередную группу на расстрел, в распадок, за Иртыш, обреченные люди в Усть-Меднокаменской тюрьме перестукивались; затевались в камерах песни: «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Прощались с товарищами, прощались уже и с ним, Федором Пантелеевичем. Было это в четыре утра, и томительнее, страшнее тех минут не испытывал Федор Пантелеевич в жизни ни до, ни после, — состояние закостенелой успокоенности, полной апатии сжало его, сплавило в бесплодный камень.
И вдруг в тот уже последний час снаружи грохнул выстрел и словно бы послужил сигналом — зачастили, забухали винтовочные хлопки, откуда-то донесся в морозном воздухе перекатный многоголосый клич, и за решетчатыми окнами забегали тюремщики — чугунно припечатывались сапоги. Все, казалось, свершилось вмиг: выстрелы откатились куда-то в сторону, пронесся и будто сплетенный в рой перестук копыт — больше эскадрона конницы; загремели железные засовы, и в коридоре зычно раздалось:
— Выходи, товарищи! Свободны!
Вернулся тогда в Нарымское Федор Пантелеевич — два дня Матрена Власьевна обмывала, отчищала его, отпаивала травами, настоями сушеных ягод, маральего корня. Одежку, исподнее белье, в котором пришел, и стирать не стала: отнесла за баню, на откосный берег Нарыма, спалила на костре.
Та многоснежная буранная зима двадцать девятого года нежданно явилась причиной, пусть и косвенной, его решения — перевесила чашу в его тяжелых, бессонных ночных думах, податься или нет из родного Нарымского в чужой, безвестный Свинцовогорск. Хотя не такой уж он и чужой, этот Свинцовогорск: жил там Петр Косачев, — с ним бежали из колчаковского плена. Да еще и давний, теперь забытый корень Матрены Власьевны зачинался оттуда — от ульбинских бергалов, крепостных людей, мастеров рудного дела. В роду Матрены Власьевны жило преданье, будто происходили они от самого Максима Перелыгина, знаменитого бергала, угодившего в эти края «в зачет рекрут», трижды, а кто толковал, пять раз убегавшего за «камень», кому после выжгли тавро каторжанина, заколотили в пудовые, громоздкие колодки, отправили в Нерчинскую каторгу, на свинцовые рудники Горного Зерентуя. Была молва, будто и умер под пытками Максим Перелыгин, лихой и неуемный прапрадед Матрены Власьевны, примкнув и там, в Нерчинской каторге, к неудавшемуся заговору. В детстве Матрена Власьевна слышала, что у каких-то ее родственников даже хранились изжелтившиеся, полуистлевшие бумаги о Максиме Перелыгине, но теперь уже и это забылось, да, верно, сами бумаги тоже исчезли, утратились в крутых, перемолотых событиях революции и гражданской войны.
Да, зима та выдалась снежная; из Нарымского до райцентра, зажатого горными кряжами, было ни много ни мало, а сто тридцать верст. Единственную дорогу забило заносами так, что прорваться туда можно было лишь на лошади, да и то с великим риском. А лошадей в Нарымском в ту пору изъяли до единой: красный обоз в пятьсот саней отправился с хлебом в Семипалатинск — подарок рабочему классу. Сам Федор Пантелеевич вместе с другими партийцами и старался, чтобы до единой лошади собрать в обоз. А эти-то его старания — кто мог предположить — обернулись ему во зло, в обиду, не усмирившуюся и за долгие годы. Как раз в это время в районе проводили «партийную чистку». Товарищи по ячейке, Архип Сапожников да Матвей Перевощиков, проскочили в район еще до заносов, а его, Федора Пантелеевича, оставленного досправить обоз, гулявшие в горах бураны заперли тут, в Нарымском. Пробиться вверх, в горы и думать было нечего, — выискивались смельчаки, да не выходило, возвращались. Архип и Матвей вернулись из района только через две недели, спустились чуть живехонькие. А когда позднее в соседнее село Бурановку приехал уполномоченный района, оттуда и пополз слух, будто его, Федора Пантелеевича, «вычистили» как не явившегося, — значит, мол, уклонившегося…
Знал Федор Пантелеевич «шапошно» того уполномоченного, Ваську Гусева, и, не веря еще слухам — кулацкие языки, верно, несут, — отправился ввечеру, чтоб не глазели сельчане, за четыре километра, в Бурановку. Не сказал он о своей затее даже Матрене Власьевне: допытает Ваську, что к чему, тогда и откроется, допрежь-то нечего смуту вносить, авось еще все обойдется.
Васька Гусев чаевал у родителей за ведерным самоваром, пузато возвышавшимся на клеенкой накрытом столе, и, видно, тотчас понял, зачем пожаловал поздний непрошеный гость, угрюмо вставший у порога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: