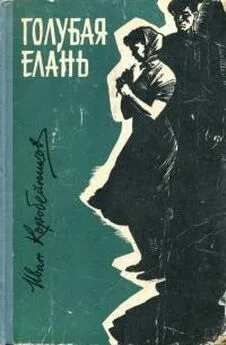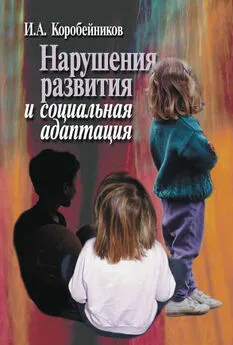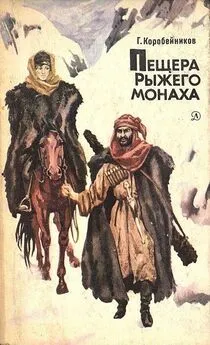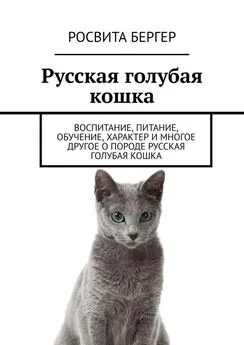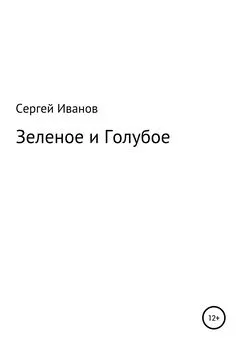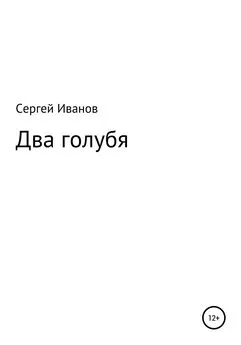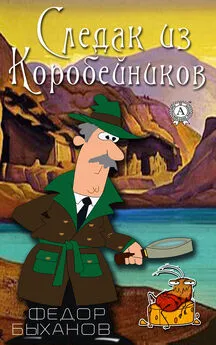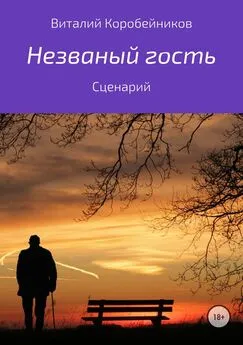Иван Коробейников - Голубая Елань
- Название:Голубая Елань
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1964
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Коробейников - Голубая Елань краткое содержание
Литературные произведения И. Т. Коробейникова публиковались в различных областных и центральных газетах.
И. Т. Коробейников, живя в сельской местности, был участником борьбы за строительство новой жизни в период коллективизации сельского хозяйства. Это и дало ему материал для создания романа «Голубая Елань».
Без излишней торопливости, с точным описанием деталей труда и быта, автор показывает всю сложность тогдашней обстановки в советской деревне.
В центре романа — широкие массы трудового крестьянства.
Писатель серьезно, уважительно относится к душевному миру своих героев, которых объединяет активность, целеустремленность, высота нравственного идеала и жажда правды и справедливости.
Диалог, живой и темпераментный, хороший юмор, умение нарисовать портрет одним-двумя штрихами, пейзаж Зауралья, отличное знание жизни уральской деревни конца двадцатых годов — все это помогло автору создать книгу о неповторимом прошлом с позиций сегодняшнего дня.
Голубая Елань - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пелагея знала, что до нее разговор был совсем другой, но все-таки хотела верить, что Костя со Стянькой и впрямь пара, какую поискать.
20
Небольшой окружной город стоял на границе Сибири. Его украшали березовые рощицы и пышные садики с настурциями и пионами. На прямых центральных улицах стояли особняки купечества и духовенства. На окраинах жались друг к другу утлые хибарки. Весной город затопляла своенравная речонка, и тогда жители береговых переулков ютились на чердаках, а лодочники тыкались носами в подвальные окна. Летом по пустынным улицам ходили пыльные смерчи, а осенью стояла непролазная грязь. Но вот приходила зима. Когда выглядывало солнце, город стоял белый, пряничный.
Он издавна славился сливочным маслом, которое под громкой маркой «Сибирский союз маслодельных артелей» находило широкий спрос, а окрестные крестьяне перебивались с «редьки на квас». Не потому ли и назывались окрестные деревни: Редькино, Рябково, Жикино, Кошкино да Воробьево.
В городе когда-то жили ссыльные декабристы, и память о них хранилась в хибарках…
В особняках о декабристах не вспоминали. Жители особняков думали лишь о наживе и о развлечениях. Развлечься они умели. Какие здесь на рождество запекались окорока! Сколько стряпалось пельменей! Какими цветами радуги искрились графины на широких столах купеческих особняков!
А масленица?
Именно для того и придуманы были гонки на масленице, чтобы хмель «вытрясти» и аппетит нагулять. Отяжелевшие гости катались на рысаках, а после снова лезли за стол. На пасхе христосовались, менялись традиционным яйцом и при этом думали:
— Бери, бери! А векселек-то опротестован. Мой будешь с потрохами!..
А в тесных конурах, в подвалах колбасника Брюля, заводчиков Балакшина и Смолина жили, умирали и рождались те, кто по праву должен быть хозяином города.
Иногда вырывались на улицу полные веры слова:
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…
Как путевка, как залог этого счастья, при тусклом свете ночника, шурша сходила с гектографа листовка с пятью буквами на уголке: РСДРП.
Член «Сибирского общества маслодельных артелей», доктор Леватов в феврале 1917 года ходил с пышным красным бантом и с увлечением разглагольствовал о «великой миссии Керенского». В душные ночи 1919, — в то время, как снаряды Красной Армии испытывали прочность вокзала, — он отсиживался в подвале собственного дома. «Колчак не позволит сдать город!» — думал Леватов. Но город взяли большевики. Леватов лишился дома и перешел на квартиру…
…Ранним утром Василий Гонцов позвонил у двери Леватова.
Дверь открыла девка в подоткнутой юбке с мокрой тряпкой в руках.
— Чего тебе?
— Доктор Леватов здесь живет?
— Здесь. Тебе на што?
— Письмо ему, — почему-то робея, ответил Василий.
— Проходи, — отступила девка от двери, пропуская вперед.
Василий шагнул и очутился в коридоре. На полу стояло ведро с водой.
— На мытое не ходи. Сядь тут, — строго сказала девка, — вот домою и скажу ему… Из деревни? — отжимая тряпку, спросила она.
— Из деревни.
— Хворый?
— Хворый.
— Нынче все хворые. — Девка выпрямилась и с отчаянной дерзостью посмотрела в свинцовые глаза посетителя:
— Кулак?
Василий растерялся.
— Ну! Ты того… колхозник я…
— Знаем мы! Много таких к доктору ходит, — сказала девка и снова начала тереть пол.
Закончив мыть, она ушла в комнаты и через минуту позвала Василия.
Плотный мужчина с копной сивых волос и короткой остренькой бородкой сидел за столом, обсасывая косточку. У самовара сидела полная женщина.
Положив косточку на тарелку, Леватов спросил:
— Вы ко мне?
Василий молча подал письмо.
На листке из блокнота Леватов прочитал написанные карандашом размашистые строки:
«Многоуважаемый Анатолий Матвеевич!
Буду краток. Выправьте подателю сего письма крестьянину Гонцову Василию Аристарховичу документ о непригодности к тяжелому физическому труду. Припишите нервное расстройство. Будто бы в состоянии невменяемости он способен на все.
Дела плохие. Все интересное для себя узнаете от В. А.».
Василия пригласили к столу. После чая Леватов надел потертое пальто, кепку, взял в руки суковатую палку и в дверях поцеловал жену:
— Ну, мадам, угощай гостя. Я — в амбулаторию.
«Ишь, нежности какие! — подумал Василий. — Лижутся, будто навеки прощаются». Не зная, о чем говорить с докторшей, он поспешил уйти. Обошел все магазины. В гастрономическом купил спотыкач. На улице, за железной ставней, выпил и удивился: такое дорогое и никуда негодное.
Забрел на базарную площадь. Какой-то развинченный человек с мокрыми усами ходил среди народа, таская на руке дубленый поношенный полушубок:
— Кому надо, продам! Кому надо, продам!
Василий Аристархович нырнул в глубь толкучки и удивился: мужицкие новины, шубы, пимы, скатерти, сапоги, платья, кошмы — все шло за бесценок. Василий рядился, приценивался, ругался. Спросил развинченного человека с полушубком:
— Сколь просишь?
— Четвертна.
— То-то и носишься с ним… Дорогонько. Лето скоро.
— Ну, сколь? Сколь? — пристал обладатель полушубка. — Скажи, сколь? Ну, двадцать три… А? Давай двадцать…
Василий уже сто раз ругнул себя за то, что, уезжая из дома, не взял денег. Вот когда купить бы! Чтобы не бередить сердце, он ушел с толкучки и медленно побрел в гору.
На площади, примыкавшей к элеватору, он увидел несметное скопище саней. Кони прямо с земли поедали крупное ржавое сено. Спросил у первого попавшегося мужика:
— Чего тут?
— Семена получали.
В салагах лежали набитые чистосортным зерном мешки. Лошади едва тащили их по голой земле.
— Маята! — весело глянул на Василия старичок, хлопотавший около воза. — Сухо в городе-то. А в поле снег. Ни на санях, ни на телеге…
— Сеяли бы свое. Без маяты!
— Так оно — свое же и есть! Ленинский колхоз. Сдавали, значится, сюда на сортовое.
От этого стало вовсе нехорошо. Василий зашел к Леватову, получил от него справку о том, что «Гонцов Василий Аристархович страдает острым нервным расстройством», и в тот же день уехал домой.
21
Промелькнула серая, потная водокачка, голые подстриженные тополя. Вагон остановился против здания полустанка «Таловка».
Здесь надо было слезать. На дворе таловского жителя Батищева Василия должен был ждать Костя.
Как ни спешил Василий домой, ему жалко стало оставлять вагон. Никто из пассажиров не думал выходить: не было на полустанке ни кипятка, ни базара.
Вечернее солнце заливало все вокруг оранжевым светом: пыльное двойное окно вагона, дорожную корзину и веселого пассажира, жадно уничтожавшего колесики колбасы. Василий смотрел на корзину, и ему казалось, что она сплетена из толстого розового гаруса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: