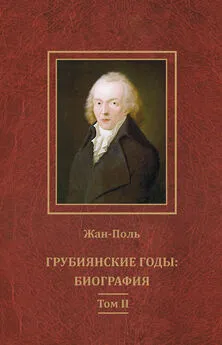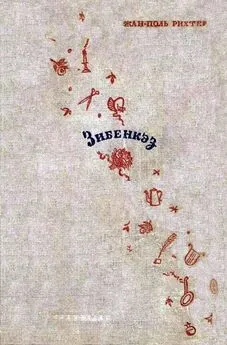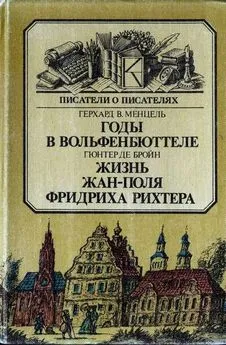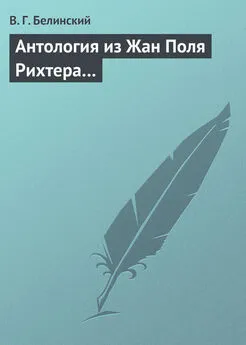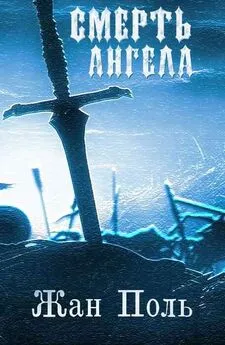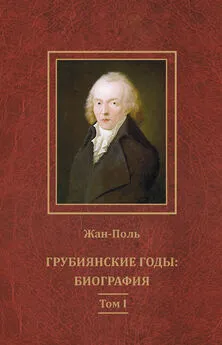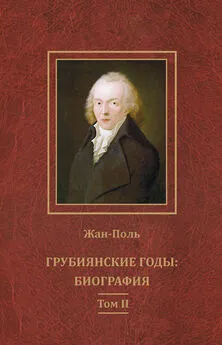Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II
- Название:Грубиянские годы: биография. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Отто Райхль
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-3-87667-445-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Поль Рихтер - Грубиянские годы: биография. Том II краткое содержание
Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя).
По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму. В любом случае не вызывает сомнений близость творчества Жан-Поля к литературному модерну».
Настоящее издание снабжено обширными комментариями, базирующимися на немецких академических изданиях, но в большой мере дополненными переводчиком.
Грубиянские годы: биография. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С номером 3, голландцами, я хотел поругаться – в своем ящике на колесах – из-за отсутствия у них поэтического вкуса: вот, собственно, и всё. Я хотел упрекнуть их в том, что их сердцу какой-нибудь упаковщик тюков ближе, чем псалмопевец, а продавец душ – чем тот, кто живописует души; и что Ост-Индская компания не расщедрилась бы на пенсию даже для одного-единственного поэта, за исключением, разве что, древнего Орфея: потому что стихи, которые он пел, заставляли реки остановиться – и значит, его свирель и его музу можно было бы использовать вместо бельгийской плотины. Я хотел отучить нидерландцев от купеческой привычки проводить различие между красотой и пользой и вписать в их сознание мысль о том, что армии, фабрики, дом, двор, поля, скот – это всего лишь писчие и рабочие инструменты души, посредством коих она возбуждает, возвышает и выражает некоторые чувства, к которым, по сути, и сводится вся человеческая активность; что индийским компаниям корабли и острова служили для того же, для чего компаниям поэтическим хватало рифм и перьев; и что философия и поэтическое искусство – это подлинные плоды и цветы на древе познания, тогда как все науки, связанные с промышленностью, и финансами, и государственным управлением, и «Камеральный корреспондент», и «Имперский вестник» – лишь листья, всасывающие питательные вещества, и заболонь, и обвивающийся вокруг корней плющ, и падаль, гниющая под деревом. – Я хотел это сказать; но воздержался – из опасения, что немцы заметят: под голландцами я имею в виду просто… их самих; а иначе как проникнешь под эти выщелоченные чаем бельгийские шлафроки? – Да и в любом случае, мне осталось не так уж далеко ехать, а сделать нужно еще много всего.
Я запрещаю европейским органам сословного представительства давать мое произведение номеру 4 – любому князю, – потому что иначе он при чтении этой книги заснет ; что я – поскольку княжеский сон не доставляет и половины того удовольствия, какое дает сон гомерический, – вполне охотно допустил бы: если бы только европейские сословные представительства воздвигли над детьми этого отечества, как arcuccio [14] Во Флоренции так называется особый каркас (он изображен, например, в экономической энциклопедии Крюница, т. 2), под который каждая мать, при кормлении, должна класть – под угрозой наказания, если не сделает этого, – своего младенца, чтобы не задавить его, если она вдруг заснет. – Примеч. Жан-Поля.
, закон, чтобы отец отечества во сне не задавил их, как бы он ни переворачивался – на бок, на спину или на живот.
Поскольку сотня книжных переплетчиков – номер 5 – будут брать меня под мышку и в руки, чтобы прочесть на целую неделю раньше, чем обрезать и положить под пресс, – а хорошие рецензенты наверняка поступят наоборот: то хорошим рецензентам придется ждать книжных переплетчиков, читателям – рецензентов, а мне – читателей, так что одна-единственная птица несчастья, Унглюксфогель, натравит нас всех друг на друга и заманит в болото; но кто же может запретить это книжным переплетчикам, если не я сам, который в этом Сообщении для книжных переплетчиков собственноручно конфискую у них мою книгу?
Много разговаривать, как я обещал, с Одноногим – номером шестым – вообще не имеет смысла, поскольку я сам и есть эта штучка, а сверх того зовусь одноногим автором. Хофцы (жители города Хофа, 7-ой номер), среди которых я обитаю, наверняка наградили меня этим анти-эпическим прозвищем, потому что моя левая нога, как известно, гораздо короче другой и потому что, сверх того, внизу она заканчивается скорее квадратным, чем кубическим футом. Мне известно, что люди, которые, подобно ост-индским омарам, имеют одну короткую клешню и одну длинную, могут помочь себе с помощью особой обуви, в которой их дети уже не будут нуждаться; однако нельзя отрицать, что подагра все же щиплет такого человека за обе стопы и прикручивает к его ногам худшие испанские сапоги, чем те, какие когда-либо носили люди, допрашиваемые инквизитор ами.
Я мог и не упоминать, что, достигнув Фихтельберга, хочу поговорить – письменно – с моим дорогим Хофом, находящимся в Фогтланде, поскольку могу устно болтать на тамошнем наречии и поскольку мой собственный паренек родом оттуда. Мое желание, или цель, в таком произведении, как это, состоит и будет состоять в том, чтобы этот умудренный днями и годами город мог наслаждаться сном – который я хочу нагнать на него в сей книге жесткими гусиными перьями – на перинах из мягкого пуха той же птицы…
– Теперь, наконец, я добрался до Бычьей головы. -
Эта строчка – не стих, а только знак, что я побывал там, наверху, и многое сделал: мой паланкин отстегнули, и я с закрытыми глазами забрался в него, потому что хочу осмотреться только на Снежной горе, этом куполе Фихтельгебирге…. Пока я выходил из экипажа, мимо моего лица потянуло эфирным утренним воздухом; он не тяготил меня душным западным дуновением траурного веера, но приподнял веянием знамени свободы… Поистине, мне захотелось под каким-нибудь воздушным шаром написать совсем иные эпопеи, и под водолазным колоколом – совсем иные феодальные законы, нежели те, что мир имеет сейчас…
Я хотел бы, чтобы эти судьи искусства – номер 8 – тоже оказались в моем паланкине и чтобы у меня были их руки; я бы тогда пожал их и сказал: судьи искусства отличаются от рецензентов так же, как судьи от палачей… Я бы поздравил их с присущим им вкусом: что он, как и вкус гения, похож на вкус космополита и не воскуряет благовония какой-то одной красоте – скажем, утонченности, силе, остроумию, – но что он в своем симультанном храме и Пантеоне имеет алтари и свечи для удивительнейших святых, для Клопштока и Кребийона и Платона и Свифта…. Чтобы человек мог увидеть определенные красоты, как и определенные истины – мы, смертные, все еще воспринимаем то и другое двояко, – его сердце должно быть в такой же мере расширено и расчищено, что и голова…. Между небом и землей висит большое кристаллическое зеркало, на которое сокровенный новый мир отбрасывает свои величественные образы; но лишь незапятнанные детские глаза воспринимают их там, оскверненный животный взгляд не видит даже самого зеркала…. Только одного публичного судью, которого почитает мое сердце, пусть пошлет мне этот год – хоть бы и предубежденного против меня; ибо предубежденный такого рода может высказать более поучительное суждение, чем непредубежденный, но относящийся к касте повседневных газетных писак.
О плане романа (но не о его персонажах) читатель вправе судить уже по первому тому: все красоты и закругленности, посредством коих последующие тома развивают этот план, не устраняют ошибок и перескоков, совершенных в первом. Я вообще не знаю ни одного тома или журнального выпуска, в котором автор имел бы право сердить читателя. Близость Снежной горы не позволяет мне аргументированно доказать, что французский способ повествования (например, в «Кандиде») – самый отвратительный в мире; и что интереснее всего именно обстоятельная манера рассказа, подсмотренная у Гомера, или у Фосса, или у обычных людей. Далее, я попаду на Снежную гору прежде, чем успею хотя бы наполовину доказать, что все мы, беллетристы (какое ужасное слово!), хотя и должны были бы почитать Аристотеля за нашего magister sententiarum , а его заповеди – за наши 39 статей и 50 Дигест: но что ничто из высказанных им идей не заслуживает большего уважения с нашей стороны, нежели заповедь трех единств (это эстетическое Regeldetri ), против которой не вправе грешить даже романы. Человек интересуется только Ближайшим и Сиюминутным ; даже важнейшее событие, которое отдалено от него во времени или пространстве, ему безразличнее, чем самомалейшее, но происходящее рядом с ним; так обстоит дело, когда он переживает какие-то события, и точно так же – когда читает о них. На этом основываются правила единства времени и места. Поэтому: начало в середине истории, чтобы уже оттуда совершить возвратный прыжок к начинающему началу, – запутывающее временную последовательность перетряхивание сцен или эпизодов – также как завязывание нескольких главных узлов, да даже и мотив путешествия в романах, дающий «богам из машины» возможность свободной, но неинтересной игры – короче, все отклонения от небезызвестных Тома Джонса и Клариссы представляют собой секунды и септимы в Аристотелевом трезвучии. Правда, гений может всё исправить; однако исправить – не значит сделать наилучшим образом, и сверкающие просветленные рубцы, как ни крути, все-таки остаются разрывами на просветленном теле. Если бы некоторые гении ту силу, которую им пришлось использовать для исправления последствий нарушения правил, заставили работать на соблюдение этих правил: они бы совершили больше чудес, чем Святой Мартин, который сотворил не больше двухсот шести, – Гёте в своей «Ифигении» и Клингер в своей «Медее» в этом смысле, возможно, Святого Мартина превзошли…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: