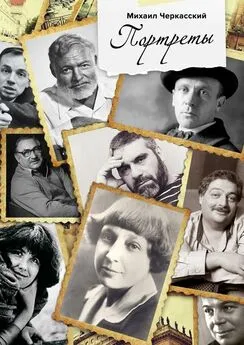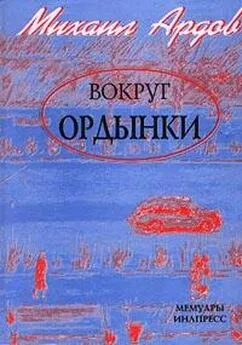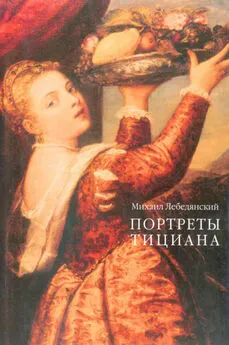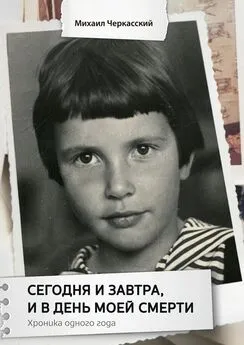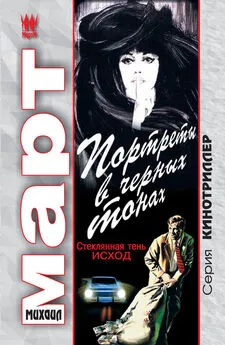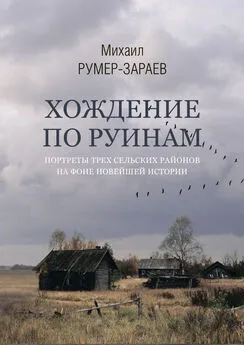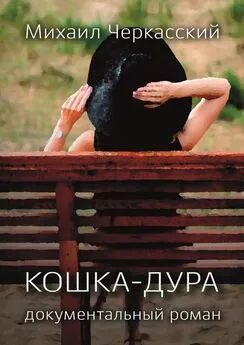Михаил Черкасский - Портреты
- Название:Портреты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449627735
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черкасский - Портреты краткое содержание
Портреты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И если вернуться к рассказу Моравиа и туда, «где чисто и светло» – видишь главное, что их отличает. Можно представить себе, как Хемингуэй написал этот рассказ. Увидел сценку – изобразил, осмыслил, убрал лишнее, оставил необходимое, добавил мыслей пожилого официанта. Можно и ошибиться – представив. Неважно. Главное – это прошло не чрез сердце. Чрез голову, через его «айсберг». И тянет на нас холодом. Нет, даже не так – все же прошло. Но такое уж было сердце. Которое не содрогнется при виде чужого страдания. Не умрет от любви к ближнему. И с этим ничего не поделаешь – другого не вставишь. Кашкин пишет о Хемингуэе: «Он очень горяч». Симонов вторит: «такое страстное неприятие… такой свирепый протест… такое острое стремление разделить свое существование с людьми». Но, боже, как это далеко от того, о ком они нам это втолковывают.
Смешно было бы подозревать Хемингуэя в том, что он равнодушен, холоден. Скажем больше: временами даже пристрастен. Хотя это и противоречило его принципам. «Как человек, вы представляете себе, что хорошо, что плохо. Как человек, вы твердо знаете, кто прав, кто виноват. Вы бываете вынуждены принимать решения и осуществлять их. Как писатель вы не должны судить. Вы должны понять». Понять он все мог, но любил и ненавидел – Т А К. Как мог. Он многих наубивал, но случалось ли с ним то, что с Флобером, когда он давал Эмме яд? Ведь этот с виду холодный француз сам чувствовал, что почти умирает. Хемингуэй видел нищих и сирых, но ощущал ли он на себе, как Бальзак, их рубища?
Сказать, что горяч и даже свиреп – значит, не уловить в нем самого важного. Яснее ясного это он великолепно выразил сам. В бытность свою корреспондентом «Торонто-стар» Хемингуэй представлял свою газету на греко-турецком фронте. Он видел много тяжелого. Но вот наконец, сообщает Грибанов, «он вернулся в Париж. Осенний сезон был в разгаре, скачки в Отейле были особенно хороши, в кафе можно было встретить кучу знакомых, а он не мог отделаться от воспоминаний. Память о человеческих страданиях терзала его. Спустя 30 лет Хемингуэй сказал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».
Тут все правда. И то, что увиденное терзало. И то, как он понимает писательство: или сострадание, или холодный, как змий. Только в одном мы вынуждены подправить самого автора: сколько ни приказывай горячему сердцу стать холодным – оно не сможет. А он смог. Потому что чем дальше уносило его от бедной молодости к известности и богатству, тем быстрее его сердце заплывало салом. Хотя все это, в общем-то, вторично – главное, какова душа. Уж кажется не было более отстраненного холодного «змия», нежели Чехов, но вот он-то умел по-настоящему любить и ненавидеть. И – доносить до нас. А Хемингуэй… не было в этом мире ничего, что могло бы исторгнуть из его сердца крик. Всё под сурдинку, вполнакала. Без боли, без огня. И в этом ЧЕТВЕРТАЯ по счету, но, быть может, первая по значению ГЛАВНАЯ СЛАБОСТЬ Хемингуэя.
Палитра
«Хемингуэй не просто рядовой боец, который из своей снайперской винтовки без промаха бьет по фактам, но и солдат в более широком смысле, командир, который пускает в ход оружие, в зависимости от обстоятельств». И. Кашкин
Короче говоря – стратег. Потому что на фронте из винтовки он не стрелял. По носорогам – да, сам признавался, по фактам тоже. Как боец. А как солдат «в более широком смысле» вызывал РГК – резерв главного командования. Кавалерию. Чтобы обскакать классиков.
Есть два способа литературного письма – изображение и описание . Это полюсы. На одном Роллан и Фейхтвангер, на другом русские и советские классики, из западных (первые, попавшиеся под руку – Сароян, Моравиа и, предполагается, Хемингуэй). Литератор описательный называет . Литератор изображающий рисует, показывает . Фейхтвангер говорит: Лаутензак произнес блестящую речь. И точка. Как произнес, чем блестяща, что говорил? – этого нет. Это предполагается: раз произнес, раз блестяще – значит, именно так. Нас призывают верить. На слово.
Художник изображающий не позволит себе подобной спекулятивной бездоказательности. Он даже не скажет, что речь блестяща. Он постарается ее передать. Картиной. Нарисованной словами, но изображенной. А уж ваше дело понять или не понять. Здесь все построено на доверии. Можно бы этот стиль назвать импрессионизмом, можно не называть – от этого его не убудет: как говорится, хоть горшком называй, только в печь не сажай. Во всяком случае, это похоже на симпатическое письмо – читаете одно, но под вашим взглядом неожиданно проявляется другое, то, что сокрыто меж строк. К этой тайнописи ныне стремятся многие. Не случайно, потому что специфика литературы в отличие от дидактики – в изображении.
Русская проза всегда соединяла в себе оба начала. Голое описательство, назваз (назовем его этим неловким словом) был ей так же чужд, как внешне бесстрастная живопись. Вот знаменательная фраза из «Отцов и детей» Тургенева. «Павел Петрович дошел до конца сада и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных, темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд». Нынешний писатель поставил бы здесь жирную точку или многозначительное многоточие. Тургенев не удержался: «Он не был романтиком, и не умела мечтать его щегольски сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа». Это была дань времени: надо было разъяснять. Современному просвещенному читателю и без того уже все ясно: глаза, которые не отражают ничего, кроме света звезд, пустые глаза, как бы прекрасны они ни были.
Перед нами типичный назваз . Со всеми его слабостями и… силой. Да, современный писатель остановился бы. Но сумел ли бы он так здорово определить: щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа? Остановиться могут многие, но кто из них способен вот так, одной фразой, схватить самую суть? Но вот представляя Базарова, Тургенев дает лишь портрет. Ни слова от автора и в дальнейшем тоже уже ни малейшей попытки прямой характеристики. Но чем второстепеннее герой, тем соответственно пышнее цветет описательность. И скажем, мимоходная фигура Матвея Ильича Колязина уже сплошь состоит из обнаженных авторских характеристик. И это было естественно: ведь описательный метод позволяет пусть менее художественно, зато гораздо экономнее положить ту или иную фигуру на бумагу.
Стремление только изображать, боязнь бить прямой наводкой наложило своеобразный отпечаток на импрессионистскую прозу. В частности это заметно в резком увеличении диалогов, «между» которыми так часто прячется вожделенный подтекст. Восторжествует ли импрессионизм, станет ли всеобъемлющим? Вряд ли. Новое направление давно уже вылезло из пеленок, ему уже далеко за пятьдесят, а в литературе оно занимает хотя и почетное, но не ведущее место. Но может, мы недооцениваем потенциальные силы этого течения? Может, внешняя инфантильность это именно то, что нужно торопливому и мудреному двадцатому веку? С ответом подождем, не наша это забота и не нашего разумения дело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: