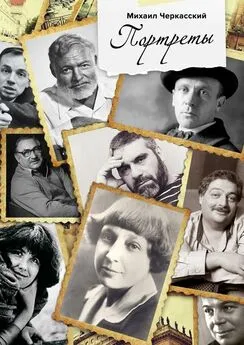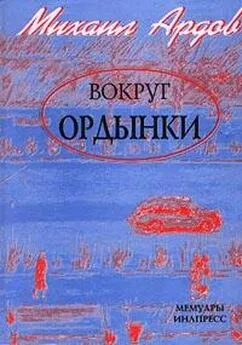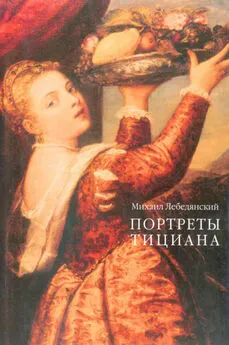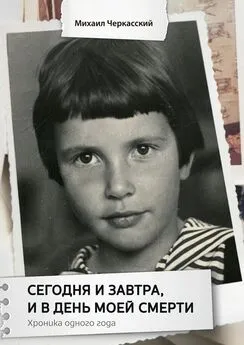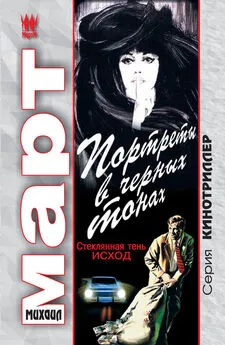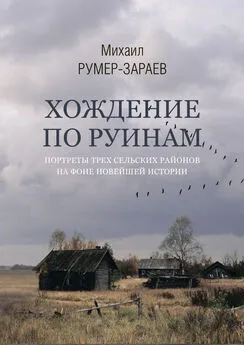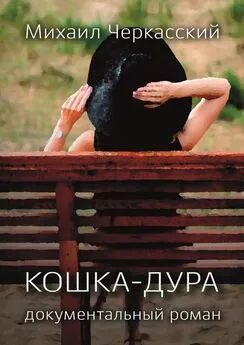Михаил Черкасский - Портреты
- Название:Портреты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449627735
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черкасский - Портреты краткое содержание
Портреты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хемингуэй очень рано осознал слабости описательного стиля. Роллан озарял назваз духом, юношески велеречивой порывистостью, Фейхтвангер – раздумчивым историзмом, серьезностью эрудита. Но Хемингуэю, этому полнокровному жизнелюбу, экстаз, равно как и прохладная рассудительность, были не подвластны. И если бы он попытался опереться на них, это неминуемо обернулось бы поражением. Ведь первая и огромная трудность, с которой сталкивается художник, это выбор формы. Есть тема. Есть идея (если, конечно, она есть), а вот что такое форма, этого вначале не знает никто. Она глядит пустыми белками с чистых листов. Какой она будет? Во что отольется содержание, как отобразить, как изложить свое видение, свое миропонимание – вот неизбывная забота писателя. И – повторимся – из двух вопросов: что и как, для него поначалу гораздо острее второй. Потому что если он не справится с этим, пропадет и первозданное – смысл произведения. И не только смысл, но и окраска, настроение, в общем, получится то и не то. Совсем не то.
И в начале Хемингуэй инстинктивно опирался на факты. Тут, конечно, тоже в литературных лоциях отмечены свои рифы. Самый грандиозный из них – Эмиль Золя. Кредо которого кратко выразил Щедрин: увидит забор – опишет забор, увидит поясницу – опишет поясницу.
О Хемингуэе говорят разное, однако натуралистом его не называл никто. И – справедливо. Потому что он никогда не был рабом фактов, умел отбирать их, а главное – подчинял тому, что хотел выразить. Фактами, их подбором, игрой, связями, противопоставлением и – самое существенное – музыкой своего стиля. Ведь это и есть тот знаменитый т о н, который и делает музыку. И у каждого настоящего писателя он свой. Но также справедливо и то, что был он полунатуралистом . Это отчетливо видно в его ранних рассказах, особенно в том, который он неизменно любил – «На Биг-Ривер».
Когда читаешь этот рассказ, чувствуешь, до чего же все-таки обожал он мир ощущений – незыблемую основу своего творчества. «Биг-Ривер» заключает сборник «В наше время». Задумана книга весьма своеобразно: рассказы перемежаются вкладышами-предисловиями. В отличие от обычных предисловий эти вклейки так же относятся к комментируемому, как бузина, которая в огороде, к тому дядьке, который «в Киеве далеком». Но автор все же усматривает (и не без основания) между ними некую значительную связь: ведь бузина и дядька существуют – «В наше время», на одной земле, под одним солнцем. Столь экономным способом автор охватывает весь мир, глубоко проникает в самую суть его. Чрезвычайно удачно использован метод контраста: растительной жизни бузины противопоставлены катаклизмы неистребимого дядьки. Его вешают – он воскресает, его четвертует на арене бык – он все равно возвращается. Чтобы встать во главе очередного рассказа.
Четкому замыслу соответствует не менее чеканная форма. Если рассказы будничны, натуралистичны, подробны, то вкладыши наделены всеми приметами новеллы – лаконизмом, необычностью ситуации. Различие закреплено даже графически: рассказы набраны обычным шрифтом, новеллы – курсивом. Впоследствии, правда, типографские барьеры обрушатся, и два эти течения сольются в полноводный натурально-трагический поток. Что и даст нам могучего, не похожего на других новатора.
«Биг-Ривер» несет и внешние отпечатки авторской любви. Подобно крупной узловой станции он разделен на «Биг-Ривер 1» и «Биг-Ривер 2». Мы не знаем, какой смысл вкладывают в это железнодорожники, но Хемингуэй, уложив Ника Адамса с вечера спать на Первом и разбудив его утром уже на Втором, имел твердый замысел – расчистить платформу еще для одной мини-новеллы, для некоего Сэма Кардинелла, которого «повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы». За что – неизвестно. Зато о коридоре мы узнаем, что он был «высокий и узкий, с камерами по обе стороны». А бедняга Сэм? Ну, что ж, хоть имя узнали. Другим висельникам и в этом отказано. А Сэму, может, потому повезло, что у него «началось недержание кала». И потом разве это так уж важно, за что человека повесили, если его уж повесили. Мы думаем, и ему, и нам, читателям, это вполне безразлично. Да!.. еще надзирателя одного звали Билл. «Нет ли табуретки, Билл? – спросил один из надзирателей». Это для Сэма.
Но пора вернуться к Нику Адамсу. Но по дороге к нему мы вдруг спотыкаемся о чрезвычайно важную мысль: а может, бедняга Сэм нужен как ложка горчицы к сытому Нику? То есть показать, что мир многолик, ну, помните: «кто-то находит, кто-то теряет». Но на Сэма автору глубоко наплевать, поэтому, наспех вздернув его, он с курьерской скоростью спешит к своему Нику. И тут, притормаживая, останавливается. Как в депо. Или на станции конечного назначения. Но за что же Хемингуэй всю жизнь так любил его? Ну, за то, что это он сам, причем молодой. Это понятно. Пожалуй, даже Эмиль Золя двумя руками бы подписался под этим «образом». Или нет? Наверняка нет. У Золя все-таки что-то происходило. И очень многое, а здесь… Будто в лупу прослежен каждый шаг, каждое шевеление; и свое собственное, и удочки, и желудка, и… того, чем кончается пищеварение? Нет, нет, этого все-таки нет. Зато не оставлены без внимания удочки, лески, рыбки, кузнечики. Со всем тщанием и добросовестностью натуралиста, рыболова и энтомолога. Наверно, Левенгук так не радовался, когда первым из людей обнаружил под микроскопом невидимый мир бактерий.
«Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они начали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушание приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки выскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе удовольствие».
Вот какой он умелый, рассудительный, наблюдательный, этот тошнотворный Ник. Ничто не ускользнет от его бдительного фотоока. Даже подумать ему некогда. А цитировать можно без конца – весь рассказ, от сковородки до сковородки. И про то, как он испек себе лепешек из гречневой муки, и, переворачивая первую, похолодел: «Только бы не разорвалась». И про то, как Ник «съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман». И про то, как ловил кузнечиков, и в рассказе это так же долго, как было тогда, на лугу. И так же быстро и с теми же удовольствиями. И когда начал насаживать кузнечика, то «воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь головогрудь, до самого последнего сегмента брюшка. Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: