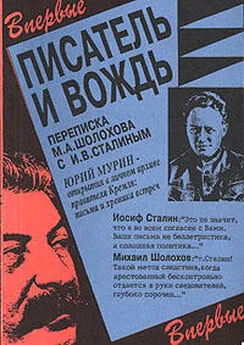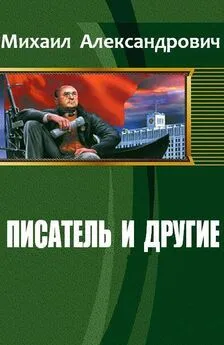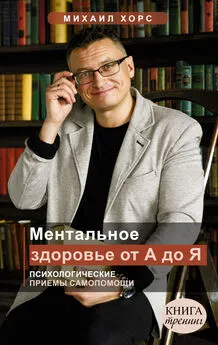Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]
- Название:Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481363-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.] краткое содержание
Михаил Вайскопф — израильский славист, доктор философии Иерусалимского университета.
Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
537
Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1955. Т. 9. С. 363.
538
Валентинов Н. Наследники Сталина. С. 200.
539
Авторханов А. Указ. соч. С. 315.
540
Волкогонов Дм. Кн. I. Ч. 1. С. 215.
541
Сакральность «ядра» подкреплена его особым геометрическим статусом, ибо оно кристаллизуется посредством (попеременной) борьбы с двумя симметрическими опасностями (по принципу «обе хуже»). «Нужно было, — продолжает Сталин, — бить сначала меньшевиков (на предмет выработки марксистских кадров), а потом отзовистов (на предмет превращения этих кадров в массовую партию), наполнив борьбой с этими уклонами целых два периода в истории нашей партии».
542
Тут он в очередной раз полемизирует с Энгельсом, который по-руссоистски верил в предстоящее исчезновение крупных городов. «Большие города, — возражает Сталин в „Экономических проблемах социализма в СССР“, — не только не погибнут, но появятся еще новые большие города как центры наибольшего роста культуры, как центры не только большой индустрии, но и переработки сельскохозяйственных продуктов и мощного развития всех отраслей пищевой промышленности». Что касается верховного административного центра, то он никуда не денется и при коммунизме, а просто сменит вывеску. «Государство отомрет, — говорит далее автор, — а общество останется. Следовательно, в качестве преемника общенародной собственности будет выступать уже не государство, которое отомрет, а само общество, в лице его центрального, руководящего экономического органа».
543
Весной и летом 1928 года, т. е. накануне коллективизации, все беды советского сельского хозяйства Сталин усматривал в его «распыленности», которую должно заменить «крупное и концентрированное производство», типа того, что уже достигнуто в промышленности. (Правда, уже через несколько лет гигантские совхозы придется «разукрупнить».)
544
Эта метафора всегда подвержена у него реализации, яд идеологический легко превращается в яд самый обычный. Отравителями предстают, например, кремлевские библиотекарши, которые олицетворяют буржуазную контрреволюционную культуру. В 1935 году Сталин поведал Роллану: «Оказывается, что кой-кого из этих библиотекарш завербовали наши враги для совершения террора. Надо сказать, что эти библиотекарши по большей части представляют из себя остатки когда-то господствующих, ныне разгромленных классов — буржуазии и помещиков. И что же? Мы обнаружили, что эти женщины ходили с ядом, имея намерение отравить некоторых наших ответственных товарищей». — Сталин И. Соч. Т. 18. С. 167.
545
В своем выступлении перед железнодорожниками на ноябрьских праздниках 1937 года он до того увлекся идей достигнутой государственной слитности, что даже отдал ей предпочтение перед дихотомией центра и периферии: «У нас с вами нет заброшенных окраин, нет центров, все стянуто воедино». — Невежин В. А. Застольные речи Сталина. С. 160.
546
Цит. по: Сталин И. Соч. Т. 16. С. 75, 76.
547
О роли индивидуализированного центра и ступенчатых композиций в сталинской архитектуре ср.: Паперный В. Указ. соч. С. 102–111, 129–130.
548
Такой централизм аукался с допетровской абсолютистской традицией, стремившейся (например, при Алексее Михайловиче) лишить администраторов малейшей независимости. В этой жесткой подконтрольности и скованности состоит важнейшее, но редко учитываемое отличие советского режима от национал-социализма, в котором, при сходной дисциплинарно-коллективистской риторике, действовал тем не менее совершенно иной принцип — чиновничьего вождизма (Fuehrertum), т. е. полицентризма, оставлявший широкое поле для личной бюрократической инициативы. Да и вообще гитлеровский режим был куда менее «тотален». «Здесь все же совсем иначе, чем в Москве! — сказал ген. Власов опекавшему его немецкому офицеру. — Вы берете на себя ответственность и действуете по вашей совести. Такое у нас немыслимо. Малейший намек диктатора — и все падают ниц» ( Штрик-Штрикфельд В. Против Сталина и Гитлера: Генерал Власов и Русское освободительное движение. С. 122). Вот в изображении старого эмигранта типичная реакция советского человека, встретившегося с нацистским идеологическим и административным разнобоем: «— Пропадет Германия!.. Порядка в ней нет… Понимаете, слишком здесь много свободы <���…> — Это „слишком много свободы“ я слышу уже не первый раз <���…> Я стараюсь представить, до чего и как можно довести людей, чтобы в Германии, с ее Гестапо, сыском и доносами, почувствовать то, что чувствуют они» ( Казанцев А. Третья сила: История одной попытки. Frankfurt/M, 1974. С. 97–98).
549
Безансон А. Указ. соч. С. 221–232.
550
Вот эта динамика. «Наличие фракций, — пишет он в 1924 году, — ведет к существованию нескольких центров»; но последние устремлены к слиянию в рамках всесоюзного оппозиционного центра и новой партии. В 1926‐м, обвинив оппозицию в том, что «она становится центром стягивания и очагом всяких правых оппортунистических течений», генсек назвал ее «зародышем новой партии»; а уже в 1927 году обнаружилось, что «оппозиция вот уже второй год имеет свою антиленинскую партию со своим ЦК, областными бюро, губернскими бюро и т. д.».
551
Ср., например, его типичное замечание об «ушедшей вперед центральной — пролетарской — России» (1921).
552
Волкогонов Дм. Кн. I. Ч. 1. С. 160.
553
Гюго В. Указ. соч. С. 356, 363.
554
См., например: Лацис О. Перелом // Указ. соч. С. 138.
555
Биологическую подоплеку сталинизма лучше всего уловил, видимо, Авторханов, который дал ей, однако, неадекватное толкование: «Сталин был идеален для господства над закрытым обществом — закрытым внутри, закрытым вовне. Жизнеспособность и долголетие такого общества зависели от систематической регенерации ячеек власти сверху донизу — от постоянного вычищения отработанных кадров, от постоянного возобновления армии бюрократов. Порядок Сталина не допускал ни свободной игры на верхах, ни гражданской инициативы в обществе, даже самой верноподданнической» (Загадка смерти Сталина. С. 147). Приходится возразить здесь, что закрытое общество склонно обычно вовсе не к взрывным нововведениям, а, напротив, именно к геронтократической консервации всех своих структур; оно движется не борьбой чиновничьих поколений, а, по возможности, их монотонной преемственностью: таковы, например, режимы Франко, Салазара или Брежнева. Мы вскоре увидим, что сталинская модель обусловлена не этим герметизмом, а сочетанием мощной аграрной традиции с революционным новаторством.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)