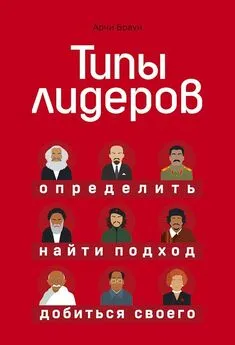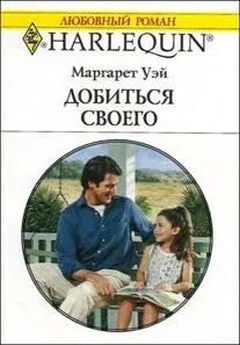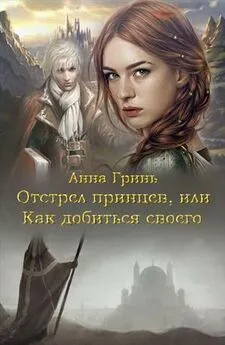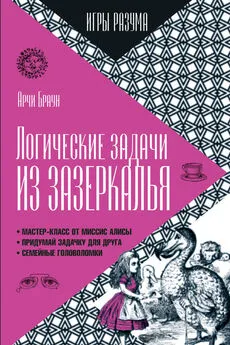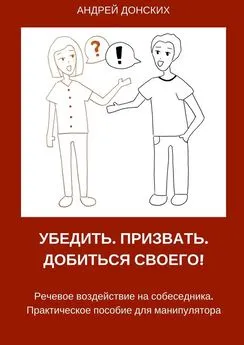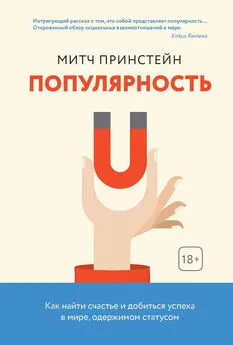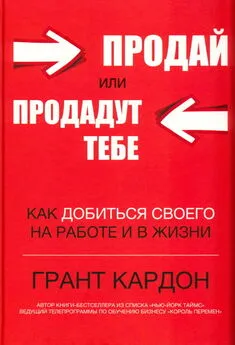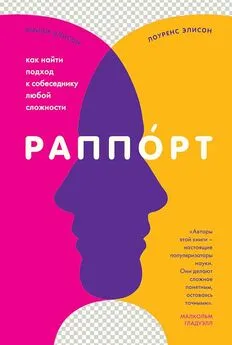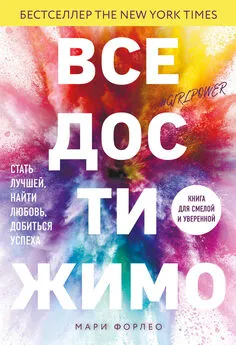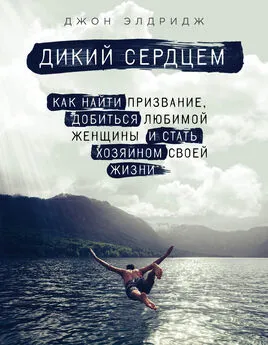Арчи Браун - Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего
- Название:Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-097976-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арчи Браун - Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего краткое содержание
Типы лидеров. Определить, найти подход, добиться своего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С той поры Китай модернизировал свои вооруженные силы, но в значительно большей степени полагается на растущую экономическую мощь в качестве средства влияния на мировую политику. Национальные интересы понимаются весьма конкретно, и страны, оказывающие поддержку Далай-ламе, слишком горячо осуждающие нарушения прав человека в Китае или выступающие за полную независимость Тайваня, наказываются сокращением политических контактов на высоком уровне и свертыванием возможностей торгово-экономического сотрудничества. Этот прагматизм тем не менее распространяется на отношения с Тайванем ровно в той мере, в какой большинство тайваньцев предпочитают свой статус де-факто автономии с плюралистической демократической системой возможности политической интеграции с коммунистическим Китаем или де-юре независимости. Последний вариант означал бы не только конец существующих взаимовыгодных отношений с материковым Китаем, но и серьезную возможность китайской оккупации с риском дальнейшего разрастания конфликта и вовлечения в него Соединенных Штатов. Используя инструменты прямых иностранных инвестиций и экономической помощи, постмаоистский Китай установил тесные связи со странами всех континентов [919]. Международная экономическая и дипломатическая деятельность Китая направлена в первую очередь на удовлетворение его потребностей в энергоносителях и сырье, но в то же время увязана и с приобретением политической поддержки в международных организациях. В конце концов, ведь даже самая маленькая страна Карибского бассейна имеет голос в ООН. Такое использование экономической мощи страны в качестве важного инструмента внешней политики было бы невозможно при Мао, полностью подорвавшим процесс экономического развития страны «Большим скачком» и «Культурной революцией» [920].
В целом же после смерти Мао коллективное китайское руководство всячески стремилось избегать рисков в своей внешнеполитической деятельности. Будучи далеко небезупречным с точки зрения соблюдения прав человека, политических свобод и демократии, современный Китай, наряду с Россией (где в это же время наблюдалось решительное свертывание независимой политической деятельности), твердо настаивал на соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Тем не менее и здесь его позицию отличал продуманный реализм. В 2003 году Китай выступил против американской оккупации Ирака, но, как отмечает Одд Арне Вестад, без желания играть ведущую роль в противодействии чему-то, что так или иначе должно было произойти. Поэтому китайцы с удовольствием предоставили роль «главных оппонентов односторонних действий США» России и таким европейским союзникам американцев, как Франция и Германия [921]. Более того, во внешнеполитических кругах Пекина «пришли к выводу, что войны в Ираке и Афганистане ослабляют США, а не усиливают их» [922].
Уход из Афганистана стал для советского руководства значительно более сложной задачей, чем вторжение туда.
Коллективное руководство, пришедшее на смену Хрущеву в Советском Союзе, также придерживалось очень взвешенного внешнеполитического курса. В межафриканских конфликтах США и СССР противостояли друг другу опосредованно, через режимы, поддерживаемые каждой из стран. Мощный кубинский военный контингент, сыгравший важнейшую роль в ангольской войне, был направлен в эту страну по инициативе Фиделя Кастро, а не по указанию Кремля. Как впоследствии заметил Кастро, «до этого ни одна страна третьего мира не помогала другой в военных конфликтах за пределами своего региона» [923]. Даже самые неудачные внешнеполитические решения брежневской эпохи — оккупация Чехословакии в 1968-м и война в Афганистане в 1979-м — не были проявлениями экспансионизма, хотя в свое время в Вашингтоне к Афганской кампании отнеслись именно так. В обоих случаях Москва рассматривала использование армии как оборонительную меру, призванную восстановить существовавший ранее порядок вещей. В случае Чехословакии следовало положить конец попыткам совместить социалистический строй с политическим плюрализмом и сохранить страну в качестве союзника СССР (хотя более просвещенное кремлевское руководство могло бы просто наблюдать за ходом эксперимента). Военная интервенция восстановила ортодоксальную систему советского образца и твердо указала другим европейским коммунистам на рамки, за которые не следует выходить, чтобы не испытывать терпение Кремля. А еще она поспособствовала тому, чтобы разрыв с Советским Союзом в конце 1980-х стал окончательным и бесповоротным.
Ввод советских войск в Афганистан имел целью предотвратить появление в этой приграничной стране режима, враждебно настроенного по отношению к СССР. Решение политбюро было не более чем соблюдением формальности. Вторжение планировалось в обстановке секретности и обсуждалось очень узким кругом лиц, хотя и не было чьим-то единоличным решением. Брежнев, чье здоровье к этому времени сильно ухудшилось, был привлечен к этим обсуждениям на завершающем этапе. Будучи далеко не самым воинственно настроенным человеком в советской верхушке, Брежнев не хотел испортить отношения с США еще больше, и его нужно было убедить в том, что оккупация Афганистана будет кратковременным мероприятием. Самым главным противником военного вмешательства из числа ведущих членов политбюро (а в обсуждении вопроса участвовали только они) был председатель Совета министров Алексей Косыгин. В марте 1979 года в ответ на настоятельные требования лидера наиболее радикальной фракции афганских коммунистов Нур Мохаммада Тараки об оказании советской военной помощи кабульскому правительству Косыгин сказал, что будут предоставлены только вооружение и техническая помощь, добавив: «Наши враги только и ждут, чтобы в Афганистане появились советские войска» [924]. Однако последнее слово было за Брежневым — во внешнеполитических вопросах согласие генсека имело решающее значение. Убедить его в том, что Советский Союз должен прибегнуть к военному вмешательству в Афганистане, смогли председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко (особенно активную роль сыграли Андропов и Устинов).
Захват власти афганскими коммунистами в апреле 1978 года стал сюрпризом для Кремля: это сделала фракция, не слишком связанная с Москвой и не пользовавшаяся ее активной поддержкой. В отличие от ничем не осложнявшихся отношений со всеми предыдущими руководителями страны, афганские коммунисты стали для советского руководства источником больших проблем. Придя к власти, они принялись одинаково энергично уничтожать и своих традиционных противников, и друг друга. К моменту ввода советских войск в декабре 1979 года Тараки был казнен в тюрьме по приказу его кровожадного соперника по внутрифракционной борьбе Хафизуллы Амина. Андропов, Устинов и Громыко не доверяли Амину, считая, что он может «сыграть в Садата» и переметнуться к американцам [925]. Амин учился в США, и в КГБ подозревали, что его завербовало ЦРУ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: