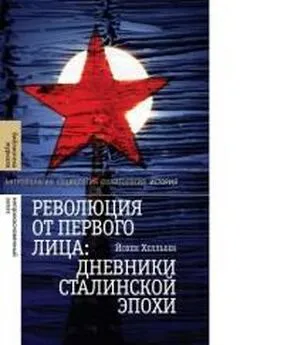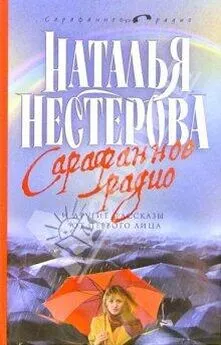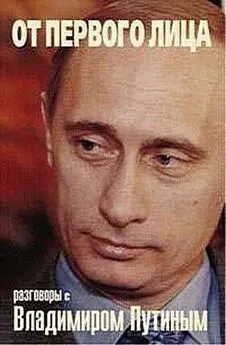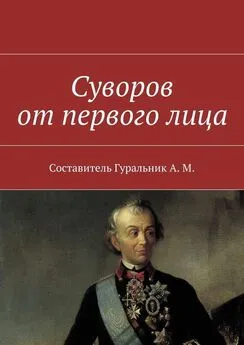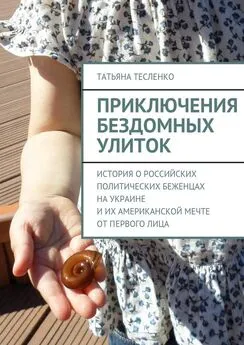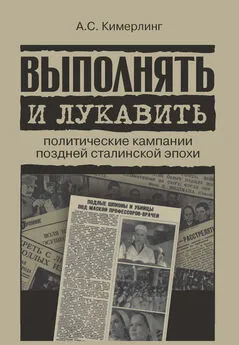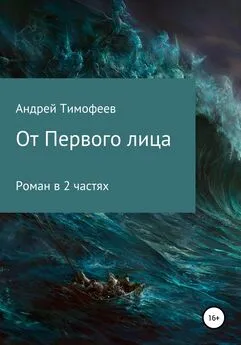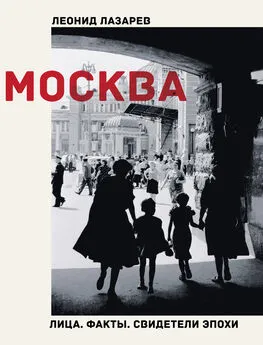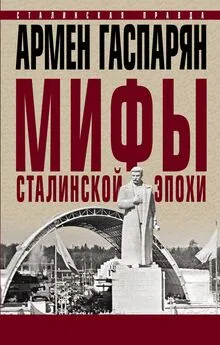Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
Тут можно читать онлайн Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: История.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи краткое содержание
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - описание и краткое содержание, автор Йохен Хелльбек, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности. Герои книги — бежавшие в город крестьяне и представители городской интеллигенции, работавшие сельскими учителями, инженеры и писатели — использовали дневник как способ самонаблюдения и самовоспитания, превращая существующие культурные образцы в горизонт внутреннего становления, делая историю частью своего Я.1.0 — создание файла
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Йохен Хелльбек
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Однако представление о всеобщем и еди-нообразном подавлении личных нарративов опровергается те-перь потоком личных документов первых десятилетий советской власти — дневников, писем, автобиографий, поэтических произ-ведений, обнаруживаемых в недавно открытых советских архи-вах. Дневник, похоже, оставался популярным жанром советского и особенно сталинского периода. Дневники вели писатели и ху-дожники, а также инженеры и ученые, учителя, профессора и студенты, рабочие, крестьяне, служащие, партийные работники и комсомольские активисты, военные, школьники и домохозяйки. Дневники вели партийцы разного уровня и беспартийные, вклю-чая людей, осужденных за контрреволюционную деятельность. Их личные хроники очерчивают экзистенциальную территорию, отмеченную авторефлексией и борьбой. Многие советские днев-ники характеризуются явной интроспективностью, но их интрос-пекция не направлена на индивидуалистические цели. В проти-воположность Уинстону Смиту, «дневниковое» Я которого было обращено против целей и ценностей, пропагандировавшихся го-сударством, авторы советских дневников обнаруживают стрем-ление вписаться в общественно-политический порядок. Они стремились к самореализации в качестве субъектов истории, действия которых определялись активной приверженностью об-щему революционному делу. Их личные нарративы настолько насыщены революционными ценностями и категориями, что они, кажется, сводят на нет различие между личной и обществен-ной сферами. Многие авторы дневников сталинской эпохи были увлечены поиском того, кем они, в сущности, являются и как они могут преобразовать себя. Они брались за перо, потому что сталкивались с насущными внутренними проблемами и ис-кали на них ответ в дневниковом самодопросе. Их дневники были действенными инструментами для вмешательства в соб-ственное Я и сопряжения его с осью революционного времени. Интерес к самопреобразованию, характерный для советской власти и авторов рассматриваемых дневников, уходил корнями в революцию 1917 года, стимулировавшую новый подход к Я как к политическому проекту. Все политические деятели, встав-шие на сторону революции, несмотря на их идеологические различия, связывали ее с перестройкой жизни общества и каж-дого человека по революционным стандартам рациональности, открытости и чистоты. Долгожданное свержение царского строя должно было привести к созданию просвещенного политического устройства, которое избавило бы Россию от «темноты» и раб-ской покорности, присущих крестьянским массам и лежащих в основе проклятой отсталости. Революция знаменовала собой переход от старой жизни к новой. Речь шла об идеальном бу-дущем, продвижение к которому диктовалось «законами исто-рии», о будущем, которого можно было достичь, применяя ра-ционалистическую науку и современную технику. Это будущее воображалось как естественная среда обитания идеального «нового» человека, которого революционеры описывали как че-ловека-машину, неутомимого работника или ничем не скованную целостную личность [8]. Создание «улучшенного издания чело-века» (Троцкий) было официально поставленной целью больше-вистского режима, пришедшего к власти в октябре 1917 года. Перековка человечества и строительство рая на земле состав-ляли смысл существования коммунистического движения. Про-поведуя эти ценности советскому населению, каждый коммунист был обязан изменить собственную жизнь по образу и подобию «нового человека». Попытка коммунистов создать новый мир была в значительной степени ожесточенной борьбой с «пере-житками» феодального и капиталистического обществ, порож-давшими эгоистические и эксплуататорские настроения. Одно-временно большевики стремились превратить людей в полити-чески сознательных граждан, понимающих исторические законо-мерности и участвующих в строительстве социализма в силу собственных убеждений. Через многочисленные политико-воспитательные кампании советская власть подталкивала людей к сознательному отождествлению с революцией (как ее пони-мало партийное руководство) и, следовательно, к осмыслению себя в качестве активных участников исторической драмы. Их призывали сделать революцию частью своего внутреннего опы-та и дать ей истолкование, которое бы определялось не только объективным ходом истории, но и духовным развертыванием их субъективного Я[9]. При Сталине режим провозгласил намерение воплотить представление о новом человеке в жизнь. Принятые в 1928—1929 годах партийным большинством решения об уско-ренной индустриализации страны, коллективизации крестьянства и активизации борьбы с классовыми врагами отражали страст-ное желание уничтожить все, что осталось от «старого мира», и приступить к строительству нового. Деятели сталинского ре-жима считали, что революция достигла зрелости и породила у своих сторонников новое сознание, которое позволит осущест-вить подобный рывок. Индустриализация должна была обеспе-чить для нового человека материально-насыщенную среду оби-тания. Масса героев сталинской эпохи — от летчиков-полярников до шахтеров и доярок-ударниц — были представле-ны как воплощение социалистической личности. Их героические деяния показывали, к чему могут — и должны — стремиться советские люди, чтобы реализовать свой человеческий потен-циал. Сталинская эпоха выдвинула советскую мечту, контуры которой идеолог партии Николай Бухарин очерчивал, имплицит-но противопоставляя ее американской мечте. В советской мечте социализм превращал бездуховные «рабочие руки», эксплуати-руемые капиталистами, в «людей, в коллективного творца и ор-ганизатора, в людей, работающих на себя, в сознательных производителей своей собственной “судьбы”, в действительных кузнецов своего счастья» [10]. В соответствии с этими револю-ционными требованиями советских граждан следовало оцени-вать по траекториям их собственной жизни. В двойственном контексте мощных революционных нарративов самопреобразова-ния, с одной стороны, и режима политического надзора над субъективностью людей, проявляющейся в ходе их самовыра-жения, граждане не могли не осознавать свою обязанность иметь определенную «биографию», публично представлять ее и работать над своим самосовершенствованием. Говорение и пи-сание о себе стали чрезвычайно политизированной деятельно-стью. «Биография» сделалась произведением, имеющим значи-тельный политический вес. Активизация мыслей и действий лю-дей, направленных на их Я, привела к резкому росту количест-ва советских автобиографий. Дело не только в том, что значи-тельно больше людей сталио думать и писать о себе, но и в том, что автобиографический подход затронул совершенно но-вые слои населения. Этот процесс вел к тому, что люди стали нащупывать язык самовыражения одновременно с обучением чтению и письму [11]. И все же, хотя коммунистический режим внес значительный вклад в создание автобиографических сви-детельств, голоса свидетелей не являлись лишь результатом приспособления к интересам режима. Язык Я не рождался из предопределенной идеологической литании. Скорее он сущест-вовал в более широкой революционной экосистеме, которую коммунистический режим не только создавал, но и сам являлся ее продуктом. Приверженность самосовершенствованию, обще-ственной активности и самовыражению в согласии с историей возникла за много десятилетий до русской революции и уходи-ла корнями в традиции русской интеллигенции. По сути дела, быть достойным определения интеллигент значило проявлять себя критически мыслящим субъектом истории. Это наследие XIX века сформировало самопонимание деятелей революции 1917 года и определило рамки проводившейся ими политики общественной идентичности и личного самоопределения [12]. Некоторые советские революционеры считали дневник, наряду с другими формами автобиографической практики, средством са-моосмысления и самопреобразования. Но другие смотрели на него с тревогой и подозрением, считая ведение дневника сугу-бо «буржуазной» деятельностью. О том, подобает ли коммуни-сту вести дневник, спорили. Ведение дневника было оправдано при условии, что оно способствовало развитию социалистиче-ского сознания и воли к действию, но существовала также воз-можность, что оно приведет к пустой болтовне или даже хуже к «гамлетизму» — мрачным раздумьям вместо революционных поступков. Люди, писавшие дневники в уединении, не под кон-тролем товарищей, рисковали оторваться от воспитывавшего их коллектива. Без такого контроля дневник стойкого коммуниста мог превратиться в рассадник контрреволюционных настроений. Не случайно дневники были одними из самых желанных для органов документов во время обысков в домах предполагаемых «врагов народа». Итак, дневники 1930-х годов были не просто прямыми порождениями советской государственной политики воспитания революционного сознания. Лишь в редких случаях дневники возникали по предписанию, полученному в классе, на стройплощадке или в редакции. По большей части эти доку-менты велись по инициативе самих авторов, которые, в сущно-сти, часто сожалели об отсутствии руководящих указаний о том, как им строить свою жизнь: не существовало официаль-ной формулы очищения от «старой» природы и сохранения ве-ры в новую. Будучи результатом непрерывной вовлеченности в самоанализ на протяжении определенного времени, дневники выявляли точки напряжения и разломы, которые обходились молчанием или вытеснялись в других нарративах. Поэтому дневники дают превосходную возможность понять формы, воз-можности и ограничения самовыражения при Сталине. Разуме-ется, не всякий дневник того периода служил целям интроспек-ции или отличался богатством языка самоанализа. Но множест-во авторов дневников разного возраста, общественного положе-ния и профессий пытались ответить на одни и те же вопросы: кто они и как они могут измениться. Их объединяло общее стремление вписать свою жизнь в более общий революционный нарратив. Для их записей характерны общие формы самовыра-жения и идеалы самореализации, не сводящиеся к отдельным случаям и имеющие более широкое культурное значение. Авто-ры этих дневников представляли себя типичным для Нового времени образом. «Быть человеком Нового времени, — пишет Мишель Фуко, — значит не воспринимать себя находящимся в потоке преходящих моментов, а видеть в себе объект сложной и трудной обработки» [13]. Это означает представлять себя субъектом собственной жизни, а не, скажем, объектом высшей воли. В Новое время субъекты перестают признавать наперед заданные роли; они стремятся к самостоятельному созданию собственных биографий. Таким образом, субъектность преду-сматривает определенную степень сознательного участия чело-века в сотворении своей жизни[14]. В частности, советские дневники, с которыми я имел дело, позволяют понять происхо-ждение нелиберальной, социалистической субъектности. С само-го своего зарождения как политического движения социализм определялся его сторонниками через противопоставление либе-ральному капитализму. Когда революционеры в Советской Рос-сии приступили к построению социалистического общества, они стали соревноваться со стандартной индустриальной модерно-стью, характерной для капиталистического Запада. Они разде-ляли с ней приверженность технике, рациональности и науке, но считали, что социализм победит экономически, морально и исторически, поскольку опирается на сознательное планирова-ние и силу организованного коллектива [15]. В этом контексте Я-нарративы высвечивают значение и смысл социализма как антикапиталистической формы самореализации. Авторы дневни-ков представляли себе идеальную жизнь в контрасте с капита-листическим Западом, который они воспринимали как эгоисти-ческий, индивидуалистический, ограниченный, словом — буржу-азный. Они стремились к тому, что один из авторов дневников назвал «второй стадией» понимания — способности избежать атомизированного существования и постичь себя как частичку коллективного движения. В расширенной жизни коллектива ви-делся источник подлинной субъективности. Коллектив обещал дать человеку дополнительную энергию, исторический смысл и нравственные ценности. Напротив, жизнь вне коллектива или вне потока истории грозила личностной деградацией, обуслов-ленной неспособностью участвовать в устремленной в будущее жизни советского народа. Юлия Пятницкая осознавала эту ди-намику, и в ее дневнике звучало настойчивое и отчаянное же-лание воссоединиться с коллективом. Потеряв после ареста мужа работу инженера, она целыми днями сидела в публичной библиотеке, перелистывая технические журналы: «Просматрива-ла Машиностроение за март. Каждый день, прожитый мною, двигает меня назад. Строятся новые машины: станки, сельско-хозяйственные, для метрополитена, для мостов и т.д. ... Инже-неры ставят по- новому вопросы организации, технологии инст-рументального дела. В общем, жизнь идет безусловно вперед, несмотря ни на какие “палки в колеса”. Чудный дворец культу-ры для “Зисовца”. Прямо завидки взяли: почему я не в их коллективе?» [16] Принадлежность к коллективу и связь с исто-рией были обусловлены необходимостью труда и борьбы, не-возможных без неудач, провалов и обновленных обязательств. На фоне неутихавших призывов к «бдительности» такие авторы дневников, как Юлия Пятницкая, описывали свою неспособность соответствовать требованиям, предъявлявшимся к мышлению и поведению советских людей. У них возникали прямые вопросы и сомнения по поводу того, как согласовать радужные офици-альные репрезентации строящегося социалистического общества с серыми и тягостными реалиями их личной жизни. Но они со-противлялись собственным наблюдениям, вызванным, как они полагали, «слабостью воли», и клялись бороться с ними. До некоторой степени колебания и сомнения были необходимы для работы над собой; они создавали динамику борьбы и движения вперед, динамику, которую авторы дневников переживали как развертывание своей воли. Разделения внутренних стремлений и внешней покорности оказывается недостаточно для понима-ния власти советской революционной идеологии, преобразую-щей и пробуждающей персональное Я. Многие личные наррати-вы сталинской эпохи показывают, что идеология была живой тканью тех смыслов, над которыми серьезно размышляли авто-ры дневников. Идеология создавала напряжение, поскольку за-частую резко контрастировала с наблюдавшейся автором ре-альностью. Суть, однако, не в том, чтобы сосредоточиться на точках напряжения как таковых, а в том, чтобы увидеть, как люди работали с ними: сколь нетерпимо было для них «двое-душие», насколько малопривлекательным представлялся уход в личную жизнь, как они пользовались механизмами рационали-зации, пытаясь восстановить гармоничное представление о себе как части социалистического общества. Значительная часть идеологических противоречий в советской системе раннего пе-риода не возникала между государством, с одной стороны, и гражданами (как вполне сформированными Я), с другой, а за-ключалась в способах взаимодействия граждан со своими соб-ственными Я. Несмотря на широко распространенную склон-ность вычитывать субъективность сталинской эпохи между строк и сосредоточиваться на пропусках и умолчаниях, чтение должно начинаться с самих строк автобиографических утверждений. Ханна Арендт, в течение многих лет изучавшая свидетельства представителей тоталитарного общества, пришла к выводу, что для «истинного понимания ничего не остается», кроме как при-нимать смысл высказываний за чистую монету. «Источники го-ворят и тем самым обнаруживают самопонимание и самоистол-кование людей, которые действуют и считают, что знают, что они делают. Если мы отрицаем их способность к самоинтер-претации и претендуем на то, что понимаем больше них и мо-жем рассказать, в чем состоят их подлинные “мотивы” и какие объективные “тенденции” они представляют — и неважно, что думают они сами, — мы лишаем их самого дара речи, на-сколько речь вообще имеет смысл». За исключением тех ред-ких и легко обнаруживаемых случаев, когда люди сознательно лгут, заключает Арендт, «самопонимание и самоистолкование являются основой любого анализа и понимания» [17]. Поскольку эта книга акцентирует формирующее воздействие идеологии на жизнь субъектов сталинской эпохи, может показаться, что она возвращается к теориям тоталитаризма, включая Арендт и Ору-элла. Сторонники тоталитарной парадигмы понимают идеологию в коммунистическом государстве как корпус официальных истин, исходивших от центральных государственных учреждений и служивших интересам режима. Идеология индоктринировала людей, внушая им, что они участвуют в великом «движении», а на самом деле обманывая их относительно истинных условий несвободы. Во многих смыслах убедительное, данное истолко-вание сводило советских граждан к жертвам устремлений ре-жима. Затем пришло новое поколение социальных историков и обнаружило активное участие значительной части населения в мероприятиях большевиков. В процессе такого обнаружения со-ветский строй был поразительным образом деидеологизирован, а его функционирование объяснялось в категориях «эгоистиче-ских интересов» различных социальных групп, выступающих в качестве бенефициаров режима. Однако историки этой школы не пытались критически проанализировать, какие формы подоб-ные «эгоистические интересы» могли приобрести в социалисти-ческом обществе [18]. Синтез этих позиций реабилитировал бы идеологию и одновременно сохранил бы ощущение индивиду-альной субъектности (agency), но субъектности, не существую-щей автономно, а создаваемой идеологией и динамично взаи-модействующей с нею. Подобное внимание к идеологии и субъ-ектности как переплетенным и взаимодействующим элементам позволило бы лучше почувствовать экзистенциальные обстоя-тельства исследуемого времени, которыми, за исключением Арендт, не интересовались ни сторонники теории тоталитариз-ма, ни ревизионисты [19]. Идеологию лучше понимать не как заданный, фиксированный и монологичный корпус текстов в смысле «идеологии Коммунистической партии», а как фермент, действующий в сознании людей и в ходе взаимодействия с субъективной жизнью конкретной личности приводящий к весьма разнообразным результатам. Человек здесь выступает в роли своеобразного операционного центра, в котором идеология рас-паковывается и персонализируется, в процессе чего индивид переделывает себя в субъекта с определенными и осмыслен-ными биографическими чертами. Активизируя индивидуума, сама идеология обретает жизнь. Поэтому идеологию следует рас-сматривать как живую и адаптивную силу, оказывающую влия-ние лишь постольку, поскольку она функционирует в живых личностях, взаимодействующих с собственным Я и миром в ка-честве субъектов идеологии. В значительной мере логика вели-ких революционных нарративов преобразования (преобразования общественного пространства и собственного Я), коллективизации (коллективизации индивидуалистически настроенных производи-телей и собственного Я) и очищения (кампаний политической чистки и актов индивидуального самосовершенствования) созда-валась и воспроизводилась советскими гражданами, рационали-зировавшими непостижимую политику государства и, таким об-разом, являвшимися агентами идео- логии наряду с руководи-телями партии и государства. Стремление авторов дневников сталинской эпохи к целенаправленной и осмысленной жизни от-ражало распространенную потребность в ее идеологизации, превращении жизни в выражение прочного, внутренне непроти-воречивого, универсального мировоззрения (Weltanschauung). Эта ориентация на осмысленность и включенность в общество пере-секалась со стремлением большевиков переделать человечест-во. Таким образом, режим мог направить устремленность к об-ретению ценности и преодолению собственного Я, возникшую за идейными границами большевизма, в приемлемое для него русло. В свете этого советский проект предстает вариантом более общего европейского явления межвоенного периода, ко-торое можно описать как двойное обязательство: иметь личное мировоззрение и интегрироваться в общество. Эта идеальная форма бытия была названа «скоординированной жизнью»: она обещала подлинность и интенсивную осмысленность, реализуе-мую в коллективных действиях, предпринимаемых в соответст-вии с законами истории или природы [20]. Апелляция к Я ле-жала в сердце коммунистической идеологии. Она была ее оп-ределяющей чертой, а также источником ее силы. На фунда-ментальном уровне эта идеология выступала творцом личного опыта. Всякий, кто вписывал себя в революционный нарратив, обретал голос как действующий субъект, принадлежащий к бо-лее широкому целому. Более того, присоединение к движению было для каждого индивида стимулом к переделке Я. Силу коммунистического призыва, обещавшего, что те, кто раньше были рабами, могут превратить себя в образцовых представи-телей человечества, нельзя переоценить. Она ярко выразилась в сбивчивых автобиографических нарративах полуграмотных со-ветских граждан, подробно описывавших свой путь от темноты к свету. Универсальность амбиций и масштаб советской револю-ции выводили ее участников на уровень субъектов истории, ко-торые ежедневно способствовали движению истории к идеаль-ному будущему. Многие из дневников, которые я буду здесь обсуждать, созданы в диалоге с этим двойным призывом ком-мунистического проекта: призывом к самопреобразованию и при-зывом к участию.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать