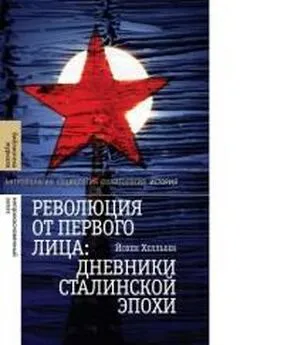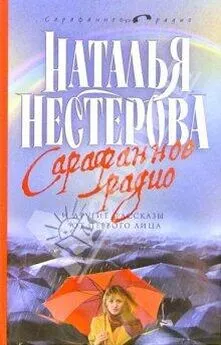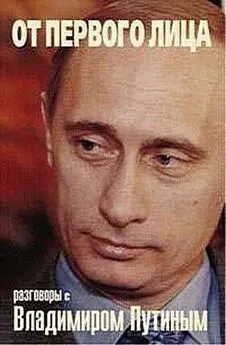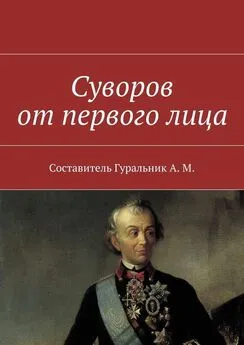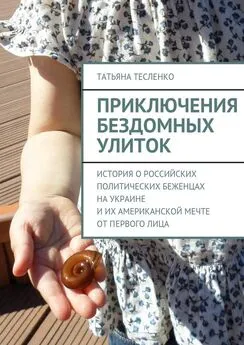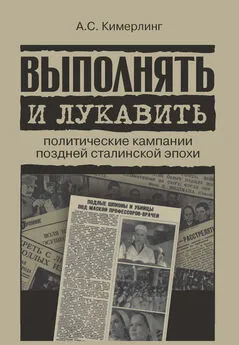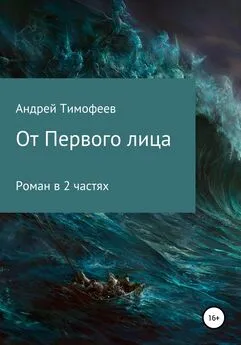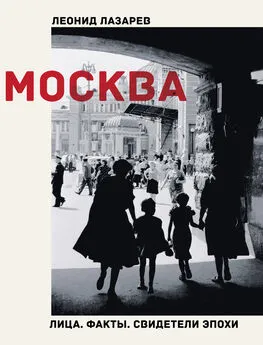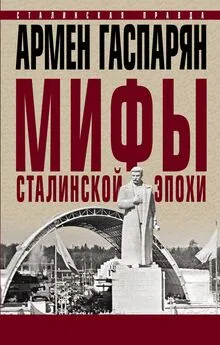Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Название:Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи краткое содержание
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА 3 ЛАБОРАТОРИИ СОЗНАНИЯ
В 1893 году Маврикий Фабианович Шиллинг, молодой дво-рянин и подающий надежды дипломат, живший в Петербурге, отмечал в своем дневнике, что обошел множество магазинов в поисках толстой тетради с замком, но все такие тетради рас-проданы, и он смог сделать заказ только на тетрадь из сле-дующей партии. Изысканно оформленные дневники с замком и ключом были, как правило, недоступны в Советской России. Авторам дневников сталинской эпохи приходилось иметь дело со школьными тетрадями, да и те были в дефиците. Многие авторы дневников упоминали о том, что из-за отсутствия бумаги и тетрадей они были вынуждены приостановить писание своих хроник. В статье в «Правде» с сожалением сообщалось о де-фиците школьных тетрадей и их низком качестве: «Грубые, шершавые, неопределенного цвета обложки легко впитывают грязь и потому засалены и неопрятны. Клякс и замазанных слов гораздо больше, чем допустимо даже для учеников перво-го класса, и в этом не вина детей: в редкой тетради найдешь крохотный клочок промокательной бумаги». В отсутствие тетра-дей кое-кто вел дневник в бухгалтерской книге, которую пред-положительно мог найти у себя на работе [87]. Пользование бухгалтерской книгой, по-видимому, подтолкнуло профсоюзного работника Александра Медведкова к своеобразной дневниковой бухгалтерии. Он фиксировал события каждого дня своей жизни в нескольких таблицах с такими подзаголовками, как «число и месяц», «дни», «наименование проделанной работы и отдыха», «содержание работы и отдыха», «личные выступления и дейст-вия», «потраченное время» и «интимность». В таблицы он за-носил количество часов, ежедневно затрачиваемых на каждый вид деятельности. Другой автор вел свой дневник на разроз-ненных официальных бланках — как советских, так и дорево-люционных [88]. Таким образом, дневники сталинской эпохи внешне резко контрастировали с дореволюционными дневника-ми, которые зачастую велись в толстых, иногда переплетенных в кожу томах, порой сделанных из «мраморной» бумаги. Этот контраст был еще заметнее у тех авторов дневников, которые вели их и до, и после революции и рано или поздно были вы-нуждены сменить солидно переплетенные тома на грубые тет-ради, выпущенные в условиях советской экономики [89]. Симво-лизирующий переход авторов дневников от упорядоченной жиз-ни к бедности и сильным потрясениям, образ двух этих книг — переплетенного в кожу тома и школьной тетради — воплощает в себе и другой переход: от ведения дневников как занятия привилегированных членов общества к демократической про-грамме всеобщей грамотности, обучения и фиксации личностных изменений. Дефицит бумаги, который приходилось преодолевать авторам дневников в 1930-е годы, лишь дополнительно подчер-кивает силу их желания взяться за перо. Та же настоятельная потребность отражается в ряде общих тем дневников, связан-ных в представлении авторов с насущными вопросами, решение которых невозможно без их участия и борьбы. Многие авторы дневников верили, что живут в историческую эпоху, и стреми-лись участвовать в событиях, составлявших ее суть. Безуслов-ная обязанность и, у многих, желание быть вовлеченными в историческое развитие были в равной степени характерны как для верных сторонников сталинского режима, так и для неко-торых из его острых критиков. Авторы дневников также знали, что для участия в политике революционных преобразований они должны сначала преобразовать себя. Они использовали дневники для отслеживания своих мыслей и действий в свете требований «общественной полезности». Для того чтобы вклю-читься в историю, было необходимо трудиться и бороться. Хо-тя многие авторы не могли «слиться с революцией» и вместо этого были поглощены «маловажными» делами — от домашне-го хозяйства до любовных романов, — они все же винили себя в «мелочности» своих забот и настаивали на том, что их чело-веческая и гражданская ценность зависит от способности слу-жить более широким интересам общества. Они стремились приобщиться к опыту более крупного коллектива, представляв-шегося им живым организмом. Приверженность коллективу при-давала их жизни смысл и энергию, выходящие за рамки про-стого выживания в эпоху усиленного идеологического надзора. В свою очередь, многие из тех, кто не мог или не хотел мыслить в едином порыве с идущим вперед коллективом, чувствовали себя подавленными и бесполезными, а некоторые даже сооб-щали о своем желании умереть. Будучи жизнетворческой силой, революция ставила перед теми, кто находился в оппозиции ре-волюционному государству, вопрос о жизни и смерти. Револю-ционное время Как демонстрируют многие советские дневники 1930-х годов, их авторы остро ощущают, что живут в исключи-тельный исторический период и должны оставить о нем свиде-тельство. «Когда-ж я начну писать воспоминания 30-х годов?» — спрашивает себя один из них. То, что он задавал этот во-прос в 1932 году, когда десятилетие едва началось, показыва-ет, насколько уже к тому времени укоренилось представление о сталинской индустриализации как об отдельной эпохе, развора-чивающейся на глазах ее свидетелей и участников. Не сводясь к простой фиксации событий, дневник часто решал дополни-тельную задачу: вписать автора в эпоху, начать диалог между Яи временем в исторических категориях и таким образом вы-вести собственное Я на уровень субъекта истории. Двоякая цель дневника — фиксация истории в ее становлении и фик-сация становления собственного Я как субъекта истории — оп-ределяла многое в дневниках коммунистов того периода, но распространялась и на авторов, критически относившихся к коммунистическому режиму. По сути дела, чем сильнее эти ав-торы критиковали политический строй, тем активнее они обра-щались к истории[90]. Александр Железняков, коммунист, про-водивший коллективизацию в Вологодской области, начал вести дневник, услышав, что будет назначен председателем сельсо-вета в другом районе. В первой записи он прощался со своими товарищами-активистами. Уточняя результаты их «борьбы» — коллективизировано 70% крестьянских хозяйств, организовано 12 колхозов, — Железняков писал, что эта «победа должна быть отмечена в истории колхозов Лихтовского сельсовета». Желез-няков включал сообщение о своем новом назначении в более широкий нарратив коллективной классовой борьбы: «Классовый враг, кулак, не спал, настраивая отсталую массу бедняков, се-редняков против колхозов… Итак, в ожесточенной схватке с отживающими и умирающими кап. элементами родились, живут и крепнут наши колхозы. Много еще впереди борьбы, в осо-бенности на новом месте, в Пироговском сельском совете, куда я переброшен районным комитетом партии» [91]. Та же страте-гия заметна и в дневнике Маши Скотт, которая расширила идеологическую рамку своего повествования до предела — до эпоса о международной классовой борьбе. Маша, учительница крестьянского происхождения, жившая в Магнитогорске, вспоми-нала о встрече с Джоном Скоттом, американским инженером, приехавшим на строительство, за которого она впоследствии вышла замуж. Она описывала свое впечатление об изможден-ном молодом человеке в лохмотьях, засыпанном пылью от домны: Этот первый американец, которого я когда-либо видела, был похож на беспризорного мальчишку. Я увидела в нем про-дукт капиталистического угнетения. Перед моим умственным взором предстало его безрадостное детство; я представила се-бе долгие часы бесчеловечного труда на каком-то капиталисти-ческом предприятии, которые он был вынужден отрабатывать еще мальчиком; я вообразила позорно низкую зарплату, кото-рую ему приходилось получать, чтобы купить немного хлеба и быть в состоянии работать на следующий день; я вообразила, как он боялся потерять даже это скудное вспомоществование и оказаться на улице без работы в случае, если не сможет вы-полнять свою работу к удовольствию и выгоде паразитов- хо-зяев [92]. Драматург Всеволод Вишневский считал своей «зада-чей» вести дневник, чтобы «сохранить для истории наши на-блюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения — участников». Чи-тая об исторических «ошибках и победах» автора и его совре-менников, будущие поколения должны были утвердиться в сво-ей приверженности делу построения идеального коммунистиче-ского общества [93]. Даже дневник, который сам автор расце-нивал как ежедневную бытовую хронику, имел историческое измерение. Николай Журавлев, сотрудник архива из Калинина (Тверь), хотел создать последовательное описание «нормальных [дней] нормального человека» для будущего историка города и советского быта. Характерно, что Журавлев начал описание обычной жизни с необычного события — 800-летия со дня ос-нования города. То, что Журавлев придавал историческое зна-чение своему проекту, видно из описания шествий и выступле-ний, происходивших в тот день: «Так праздновать могут только в стране социализма! Помню я эти официальные “торжества” при царизме… А наш праздник доподлинно массовый, допод-линно народный праздник…» Он пытался документально пока-зать, что советский быт качественно отличается от прежнего, преображен революцией — в соответствии со сталинским ут-верждением о том, что быт был революционизирован [94]. Представление о том, что дневник должен быть ориентирован на историю, чтобы стать легитимным личным документом, от-ражено и в упреках, которые авторы этих дневников обращали на самих себя за то, что им не удалось добиться такого ак-цента. Завершая первую же запись в своем дневнике, который в течение нескольких следующих лет будет посвящен в основ-ном несчастной любви к девушке по имени Катя, московский комсомолец Анатолий Ульянов упрекал себя за «тупую» неспо-собность связать дневник с более значительной жизненной це-лью: «Правильно ли выражение, что дневник — мещанство? Я считаю, что это и правильно, и неправильно. Если писать толь-ко о любви, о своих любовных страданиях, это, пожалуй, и бу-дет паскудной мещанской выходкой». Осознавая, что он сам в той или иной степени заражен чем- то подобным, Ульянов клялся перестать «заниматься “болтологией”, в дневнике вос-производить только действительность». Под нею он подразуме-вал «жизнь, о которой люди пишут книги», жизнь героев, сози-дающих новый социалистический мир. Пока же в его дневнике, наоборот, «мало написано о самой сути существования» [95]. Другой автор, писатель Александр Перегудов, лишь через чет-верть века понял, что замысел его дневника оказался неудач-ным. В 1961 году он отметил, что, перечитывая свои записи, поразился, насколько «мелкими» они были: «Где же то вели-кое, что происходило в нашей стране, что меняло ее облик, укрепляло ее могущество? Объясняю это тем, что не для этой высокой цели предназначался дневник, а для небольших “ин-тимных и лирических” записей, которые касались чисто семей-ной жизни, природы и были очень интересны только для меня и Марии. Как я жалею теперь, что не вел другой, большой дневник о больших событиях, сколько раз собирался начать и не начал» [96]. Подобно Ульянову и Перегудову, молодая учи-тельница Вера Павлова сожалела, что ее дневник касался лишь мелких и поверхностных бытовых эпизодов и не затраги-вал «крупных и значительных» жизненных вопросов. Ее дневник слишком «субъективен», заключала она, а потому «скучен и шаблонен по форме». Она наставляла себя, что надо писать «проще, создать что-то новое, и чтобы это новое открыло, оз-наменовало собой какой-то поворот… новую полосу… Да, пи-сать что-то объективное, выводить, оживлять новые образы… Сгустить события, объединить единой нитью, единой мыслью, устремленностью». Писать о жизни «субъективно», без осмыс-ления, с позиций личного наблюдения значило писать старо-модно и нетворчески. Задача состояла в том, чтобы осознать, как история преломляется в личной жизни. Записывая эти за-мечания в 1931—1932 годах, Павлова предвосхищала основные принципы возникавшей теории социалистического реализма, требовавшей от советских писателей изображать действитель-ность в революционном развитии и концентрированно выражать в литературных героях классовую борьбу и продвижение к бес-классовому обществу. Павлова предъявляет к нарративу четкие требования: чтобы дневник был ценным, он должен быть по-священ ведущей идее эпохи [97]. Понимая дневники как исто-рические хроники, их авторы, такие как Павлова, Ульянов и Вишневский, прилагали усилия к тому, чтобы представить себя субъектами истории. Календарная сетка, предоставляемая дневником, помогала им выразить осознание времени, которое было главным условием формирования исторической субъектно-сти [98]. Дневник Владимира Бирюкова, уральского этнографа и библиотекаря, показывает, каким образом календарные даты могли служить временными отметками, позволявшими отличить новое время от старого и четко локализовать автора в коорди-натах советской действительности. Бирюков, которому было тридцать с лишним лет, критиковал тщательные приготовления своей матери к Пасхе, «хотя [она] отлично знает, что мы с Ла-ринькой ни в какие пасхи не верим». На следующий день он заметил о горах пасхальных куличей на столе, которых хватило бы до 1 Мая: «Пусть сегодняшний праздник будет мамочкин, а потом — наш». В аналогичном духе профессор ленинградского технического вуза Василий Педани, который завел дневник в 1930 году в связи с рождением внука Славы, отмечал, что 12 апреля 1931 года, когда Славе не исполнилось еще и года, семья научила мальчика отвечать на пионерское приветствие «Будь готов!» Слава «поднимал ручонку: “Всегда готов!”» Ука-зав, что эта забава происходила в традиционный праздник Пас-хи, Педани тем самым подчеркивал коммунистическую направ-ленность воспитания внука. Прочитав роман писателя XIX века Ивана Гончарова, Вера Павлова была потрясена тем, насколько образ жизни в дореволюционной России не соответствовал со-ветскому образу жизни: «Кажется, будто те события происходи-ли, по крайней мере, несколько столетий назад… Только 80 лет и в них такой большой скачок, поворот истории» [99]. Нина Луговская (р. в 1919 году) была дочерью ветерана партии со-циалистов-революционеров, которого преследовали коммунисти-ческие власти. Несмотря на то что семейную квартиру неодно-кратно обыскивала тайная полиция, отец посоветовал всем трем своим дочерям вести дневники, сказав, что на их время будет «чрезвычайно интересно» оглянуться в последующие го-ды. В своем дневнике Нина пыталась разоблачать «лживость» коммунистической пропаганды, описывая голод и угнетение, ко-торые она наблюдала вокруг себя. Жалуясь на бесхребетность и забывчивость своих товарищей, она мечтала о жизни, напол-ненной революционным действием (что, в духе партии эсеров, вполне могло означать террористические акты). Однажды она упомянула о намерении убить Сталина, чтобы отомстить за не-справедливости, чинимые отцу[100]. Ленинградский студент-историк Аркадий Маньков тоже вел дневник, полный едких по-литических замечаний. Как и калининский архивист Журавлев, Маньков рассматривал свой дневник как «сырье» для истории сталинского быта, которая рано или поздно будет написана, но, в отличие от Журавлева, писал дневник с целью скомпромети-ровать политический режим. Современная структура советского общества, писал Маньков, «чисто капиталистическая», называть его марксистским государством кощунственно. Тем временем сам Маньков призывал к осуществлению революционных целей марксизма — уничтожению эксплуатации и достижению матери-ального изобилия. Он особо подчеркивал прогрессивность своей критики. Он описывал себя как «революционера», который «не приемлет современную ему действительность в принципе и идет по линии ее отрицания, во имя… идеала будущего. Он знает, что будущая жизнь лучше, но что она может быть дос-тигнута только ценой беспощадного разрушения настоящей» [101]. Знаменитый биохимик Владимир Вернадский посвятил дневник, который он вел в период «большой чистки», описанию волн арестов в своем научно-исследовательском институте и среди друзей и коллег. Лаконичные записи Вернадского четко указывали на безумие и чудовищность этой кампании. Но бо-лее всего он был озабочен пагубным влиянием чисток на саму советскую власть, в основе которой, по его мнению, действи-тельно стояли «интересы масс, во всем их реальном значении (кроме свободы мысли и свободы религиозной)». Вернадский подозревал, что Сталин и его окружение были охвачены кол-лективным психическим расстройством, ибо как иначе можно было объяснить то, что своими действиями они «могут погубить большое дело нового, вносимого в историю человечества»? «Большим делом» было строительство социалистического госу-дарства, за что, по мнению Вернадского, стоило благодарить лично Сталина. Именно этот идеал советской государственно-сти побудил Вернадского, одного из бывших лидеров либераль-ной кадетской партии и рьяного защитника государственной экономики, критиковать политику большевистской власти [102]. Несмотря на возрастные и профессиональные различия, крити-ческие подходы Манькова и Вернадского к режиму поражают своей близостью. Оба они верили в законы исторического раз-вития, предвещающие возникновение в будущем идеального общественного устройства, оба претендовали на активную роль в построении этого будущего и оба не понимали людей, кото-рые не признавали их видения будущего, а вместо этого огля-дывались на прошлое. К числу последних относился дядя Манькова, бывший купец, а ныне — «лишенец». Маньков клей-мил дядю, внешне «приятного» человека, за негативистские и ретроградные настроения: «Дядя Ваня — живое воплощение скотской ненависти к Советской Власти, ко всему сущему со стороны среднекалиберного буржуа- мещанина, от которого вместе с его доходами отняли всю цель, весь смысл жизни». С такой же решительностью отвергал возможность возврата к прошлому писатель Михаил Пришвин: «Православный крест… монархия… попы… панихиды… урядники… земские начальники — невозможно!» Несмотря на то что Пришвин осуждал бесче-ловечную политику советского государства, он рассматривал эпоху, в которую жил, как исторически необходимый железный век, требовавший дисциплины и подчинения со стороны граж-дан. Его дневник служил для фиксации порывов «ветра исто-рии» [103]. Каковы бы ни были их политические расхождения, авторы всех этих дневников проявляли отчетливое осознание своего времени как исторической эпохи и самих себя как субъ-ектов истории, обязанных участвовать в создании социалистиче-ского мира. Этому корпусу дневников можно противопоставить некоторые другие, авторы которых избегали революционного смыслового горизонта. К их числу относится дневник Евдокима Николаева, московского рабочего-самоучки и бывшего члена ка-детской партии, родившегося в 1872 году. Личная библиотека Николаева, насчитывавшая около 10 тысяч томов, была конфи-скована после его ареста в 1920 году по подозрению в контр-революционной деятельности. После ряда последующих арестов в 1938 году Николаев был казнен. На протяжении всего совет-ского периода Николаев строго придерживался в своем дневни-ке юлианского календаря, отстававшего от григорианского, вве-денного в 1918 году, на тринадцать дней. Он скрупулезно на-зывал улицы и предприятия их дореволюционными наименова-ниями. В противоположность этнографу Бирюкову, насмехавше-муся над Пасхой со ссылкой на 1 Мая, Николаева советский праздник труда натолкнул на воспоминания о жизни при цариз-ме: «И как весело и радостно всем тогда чувствовалось. Какое во всем было изобилие, и как все было дешево да счастливо. Как было тогда хорошо, как привольно тогда всем жилось, а главное — свободно и весело. Но все это, как сон, миновало, явилась смута, и пришли с каторги чуждые стране и русскому народу преступные люди, захватили в свои руки власть над русским народом и стали проделывать эксперимент за экспе-риментом». В отличие от других критиков, осуждавших тогдаш-ний режим во имя светлого будущего, Николаев отвергал рево-люционные начинания как таковые, считая их «утопической, бессмысленной системой какой-то “колхозной” жизни народа, ко-торая проводится исключительно одним только принуждением и террором» [104]. Игнат Фролов, колхозник из Московской облас-ти, тоже придерживался в своем дневнике сталинских времен юлианского календаря. Однако он не пользовался дневником в политических целях. Его записи разворачивались в соответствии с циклическим календарем природных времен года, с подроб-ными описаниями погоды и состояния урожая картофеля. Он упоминал обо всех русских церковных праздниках. Лишь иногда поток повествования прерывался замечаниями о пагубных дея-ниях «безбожников-коммунистов», руководивших колхозом. В дневнике Фролова нет признаков саморефлексии или интрос-пекции: в нем отражен образцовый случай «домодерного» соз-нания — жизнь в мире, управляемом силами природы и рели-гии [105]. Таких дневников было заметно меньше, чем шумно возвещающих об участии в революционных преобразованиях. Их незначительное число обусловливалось не только рискованно-стью подобного «инакомыслия» — дневники Луговской, Манькова и Пришвина были по крайней мере столь же политически взрывоопасны. Проблема заключалась скорее в автомаргинали-зации, к которой приводило исключение себя из революционного времени. В период политической мобилизации и общественной активности трудно было «молчать… и стоять в сторонке», как описывал свое положение автор другого дневника, уральский крестьянин Андрей Аржиловский, за которым тянулась «контр-революционная» личная история [106]. Многие авторы советских дневников считали совершенно неприемлемой поддержку дис-кредитированного царского режима как альтернативу коммуни-стическому государству, но именно в этом направлении толкало Евдокима Николаева полное отрицание советской власти. При-швин признавал существование проблемы автомаргинализации в коммунистическую эпоху. Комментируя проблему взаимоотноше-ний между интеллигенцией и большевистской партией, которые он понимал как обмен старой культуры на политический акти-визм, Пришвин заключал: «Им казалось, что они хозяева, нам казалось, что, в конце концов, мы их ведем. А кто стоял в стороне, тот превращался в старую деву». Надежда Мандель-штам писала, что ее брат Евгений считал, что бóльшая часть власти советского режима над интеллигенцией связана со сло-вом «Революция», от которого «ни за что не хотели отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные на-роды. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни». Мандельштам прибавляла, что очарование «Революции» оказалось неотразимым даже для «весьма дос-тойных» современников, в том числе для ее мужа Осипа. При-швин и Надежда Мандельштам говорили только об отношениях партии и интеллигенции, но, как свидетельствуют дневники мно-гочисленных самоучек из низших слоев общества, привлека-тельность участия в революции распространялась далеко не только на эти группы [107]. Два дневника 1930-х годов показы-вают масштабы и ограниченность исторического сознания, сти-мулировавшего появление многочисленных дневниковых записей, посвященных самоосмыслению. Хотя оба они велись вернувши-мися на родину эмигрантами, трудно представить себе докумен-ты, настолько отличающиеся по тону и направленности. Нико-лай Устрялов, профессор права, служивший одно время офи-цером в Белой армии, а по окончании гражданской войны эмиг-рировавший в Китай, уже давно завидовал «историческому оп-тимизму», с которым воплощался в жизнь советский революци-онный проект. Он вернулся в Советский Союз в 1935 году, го-товый включиться в строительство нового мира. В своем днев-нике Устрялов фиксировал признаки «зари новой эпохи», кото-рые он повсеместно замечал в Москве. Вид спортивного парада на Красной площади укрепил его уверенность в том, что «наша революция» знаменует «подъем, начало, тезис нового диалек-тического цикла». В наблюдениях Устрялова был силен рефлек-сивный элемент, поскольку он полагал, что лишь благодаря способности увидеть историю в действии он может «заслужить советскую биографию». Устрялов знал, что его прошлое как бе-лого офицера затруднит обретение им достойного места в со-ветском обществе. К тому же вид марширующих юных спорт-сменов усиливал в нем ощущение собственной старости и от-сталости от времени. Но он не мог представить себя просто пассивным наблюдателем того, как история движется к своему триумфальному завершению: «Нелегко чувствовать себя “лиш-ним человеком” в наши дни, когда, казалось бы, каждому най-дется вдоволь дела! Хочется уйти по горло в деятельность — только бы не быть лишним в нашу пору, в исторический час, когда решаются судьбы нашей великой страны, нашей великой революции. Хочется вполне, до конца стать своим в рядах со-ветских людей, советских патриотов, и тягостно переносишь свою постылую изолированность, окружающие тебя взгляды хо-лодной “бдительности” и корректного недоверия». Летом 1937 года Устрялов был арестован по обвинению в участии в анти-советском заговоре и расстрелян [108]. Еще одной возвратив-шейся эмигранткой была Татьяна Лещенко-Сухомлина, певица и поэтесса, которая жила в Западной Европе и Соединенных Штатах и вернулась в Москву в 1935 году после развода с мужем-американцем. Лещенко-Сухомлина не принимала дух са-мопреобразования, присущий советской революции, и не отвер-гала его. В отличие от многих людей, приехавших в Советский Союз в 1930-е годы, среди которых были десятки немецких коммунистов, спасавшихся от нацизма, она не ссылалась на политические причины своего возвращения в Россию. Назад на родину ее привела невыносимая ностальгия. Непривычная к со-ветской системе, она не была склонна к политическому истол-кованию повседневной жизни; ее наблюдения диктовались эсте-тическими чувствами, отсутствовавшими во многих других днев-никах того периода. Она была ошеломлена грубостью обраще-ния людей друг с другом, «трамваем, набитым орущими и тол-кающимися людьми, которые ругаются и дурно пахнут». В зоо-парке, куда она пришла с дочкой, на нее уставился человек, присевший рядом на скамейку. Когда она улыбнулась в ответ, он сказал: «Простите, я только что был в Третьяковке. Вы по-хожи на итальянскую мадонну, которую я там видел. Я никогда не видел такой женщины. От Вас нельзя отвести взгляд. Я хо-тел бы смотреть на Вас вечно». Женщина в трамвае тоже об-ратила внимание на ее внешний облик: «Ну, наконец, могу ска-зать, что увидела красивую женщину. Вы, очевидно, не рус-ская. По выражению лица можно сказать, что Вы не на-ша»[109]. Эстетика Лещенко-Сухомлиной, где в центре находил-ся индивидуальный стиль, резко отличалась от эстетики социа-листического реализма, воспринимавшей грубое настоящее че-рез призму идеального будущего и оценивавшей тот или иной факт лишь с позиций его общественной полезности. Как бы для вытеснения неприятных впечатлений, поглотивших ее в Мо-скве, она включила в дневник воспоминания о своем трехлет-нем пребывании в Испании: «Океан, скалы, глянцевитая зелень апельсиновых деревьев, розы и песок… И солнце, ослепитель-ное и великолепное, будто весь мир лежит под ним. И оно ос-вещает весь этот мир, растапливает в своих лучах все уродст-во, все горе, все болезни. О, солнце Испании — как счастье!» В противоположность многим авторам советских дневников, Ле-щенко-Сухомлина находила источник счастья в прошлом, а не в светлом будущем, которое предстояло построить. Она отожде-ствляла счастье со спокойным существованием на природе, а не с активной борьбой за ее покорение. Ее позиция была со-зерцательной, а не активной. Интересно, что ее ностальгиче-ский пассаж посвящен именно Испании. Испания часто фигури-ровала в советских дневниках того периода, но большинство авторов дневников обращались к совсем другому образу Испа-нии — образу страны, ведущей героическую гражданскую войну с силами фашизма. Испания фигурировала в них не как фон для воспоминаний о прекрасном прошлом, а как арена ожесто-ченной классовой борьбы, в которой определялось будущее [110]. Мысли Лещенко-Сухомлиной об Испании получили суще-ственное развитие на протяжении недель, последовавших за этой записью в дневнике. Прочитав в газетах о фашистских бомбардировках дорогих для нее испанских городов, она осоз-нала противоречие между «трафаретностью» своих воспомина-ний и отталкивающей реальностью войны. Она приняла пред-ложение рассказать об Испании в Союзе скульпторов-художников и была обрадована и поражена восторженной реак-цией на свое выступление. Впоследствии его напечатали в красноармейской газете «Красная звезда». Эволюция ее пред-ставлений об Испании свидетельствует о возможностях совет-ских пропагандистских образов влиять не только на представ-ление людей о себе, но даже на их воспоминания. В 1947 го-ду, в ксенофобской послевоенной атмосфере, Лещенко-Сухомлина будет арестована и приговорена к восьмилетнему заключению в трудовых лагерях [111]. Работа по самопреобра-зованию Чтобы «вписать» свое Я в историю, было необходимо трудиться и бороться. Дневники документально подтверждали этот процесс, равно как и помогали в его осуществлении. Мно-гие дневники 1930-х годов позволяли их авторам отслеживать свое физическое и интеллектуальное развитие для того, чтобы управлять им и ускорять его. Стремясь запечатлеть на бумаге эту работу по самопреобразованию, авторы дневников неодно-кратно обращались к понятиям «планирование», «борьба» и «сознательность» — ключевым коммунистическим ценностям пе-риода первых пятилеток. Молодая учительница Вера Павлова отмечала, что разделила свою личную жизнь на пятилетки, сро-ки которых совпадают с официальными пятилетками, установ-ленными советским государством. Плановые показатели, уста-навливавшиеся ею для «себя», а также ее гордые заявления о том, что производственные нормы выполнены и перевыполнены («на этом фронте пятилетка выполнена в два с половиной го-да»), показывают, что Павлова считала: ее личная жизнь долж-на развиваться как неотъемлемая часть более широкого, обще-го плана социалистического строительства. Она неоднократно заявляла о необходимости контролировать и рационализировать свою жизнь, надеясь осветить светом рациональности свои «подсознательные ощущения». Кроме того, она доверяла днев-нику свои мечты и фантазии, все свои «безумные» мысли, но прежде всего желание «систематизировать» собственные впе-чатления и в конце концов начать жить «плановой», «упорядо-ченной» жизнью [112]. Как и Павлова, московский рабочий и комсомолец- активист Ульянов ссылался на жизненный план как на структуру, которая упорядочит его жизнь и повысит эффек-тивность работы: «Я хочу в свою повседневную жизнь ввести плановость работы, как умств.-физической, так и отдыха. По-стараюсь этим облегчить мою работу. Поменьше устраивать очередные номера (прогулки с “коварной” Како и проч. и проч.)». Ульянов решил бороться со сложностями интимных от-ношений: «Пора, даже слишком давно пора переключить себя на настоящие рельсы, на здравый рассудок, на верную дея-тельность мозга, на систему». Поэтесса Вера Инбер отстаивала так называемый «“техницизм души”… словом, конструктивизм» как средство борьбы с «душевным беспорядком», неоднократно фиксировавшимся ею в дневнике. Сохраняя эту «машинную» образность, в другом месте она замечала: «Человек — это комбинат. И разум — директор этого комбината». Осознанно или неосознанно, Инбер повторяла Ленина, описавшего Комму-нистическую партию как предприятие, а ЦК — как его директо-ра [113]. Для описания структуры своего Я и механизмов само-преобразования, в которые они были включены, авторы дневни-ков использовали ряд связанных между собой дихотомий. Речь идет о бинарных оппозициях души и тела, «воли» и «сердца» авторов дневников, или их «идеологии» и «психологии». Шахтер Владимир Молодцов так описывал последнюю из этих оппози-ций: «Интересно, как в несоответствии находятся психология и идеология. По идеологии я сам себя мобилизовал на ликвида-цию прорыва и активно работаю, а психология тянет еще меня домой, в родную среду. Об этом говорят участившиеся за по-следние два дня сны, в которых я вижу мать. Но идеология поднимет психологию, это должно произойти» [114]. Слово «психология» в дневниках раннесоветского периода неизменно имело отрицательный оттенок. Имелась в виду низменная, хао-тичная и опасная сила, действующая в мрачных тайниках души и тела, сила, существование которой порой признавали у себя авторы дневников. Напротив, идеология приобреталась путем сознательной борьбы с психологией. На личностном уровне она представляла собой результат постижения субъектом законов общественно-исторического развития; на институциональном уровне на постижение этих законов — и, следовательно, на формулировку идеологии — претендовала Коммунистическая партия. Степан Подлубный, сын кулака, которого мучил «вопрос о [своей] психологии», предполагал, что унаследовал от отца врожденную кулацкую психологию и не сможет избавиться от нее. Вера Инбер, происходившая из некоммунистической интел-лигенции, намекала на «мелкобуржуазную стихию» в своей ду-ше, грозившую поглотить ее недавно приобретенное рациональ-ное мировоззрение. Психологией можно было эффективно ов-ладеть только совместными усилиями разума и воли. Две эти силы организовывали психофизический аппарат человека. Как только они делали психологию «прозрачной» и рациональной, она переставала быть психологией, возвышаясь до уровня чис-той идеологии [115]. Из-за антисоветских коннотаций этого по-нятия авторы дневников охотнее признавали действие «психоло-гии» у других, чем у себя. После разговора с другим рабочим, крестьянином по происхождению, который признался, что работа шахтера привлекла его высоким заработком, Молодцов возму-щенно замечал по поводу «крестьянской психологии» этого че-ловека: «Видит только свое и только в себя верит». Вера Пав-лова, прочитав в газете о самоубийстве шведского «спичечного короля» Ивара Крюгера, размышляла о «психологии современ-ной буржуазии», свидетельствующей о «происходящем сейчас за границей кризисе, и материальном, и психологическом». В ее рассуждениях выстраивалась логическая последовательность «психология» — духовный распад — самоубийство [116]. «Пси-хологию» авторы дневников считали также фактором, ответст-венным за многие антисоветские преступления, о которых они узнавали в 1930-е годы. Зинаида Денисьевская, учительница из Центрально- Черноземной области, была озадачена, прочитав в газетах, что на территории области действовала вредительская Трудовая крестьянская партия, в работе которой участвовали некоторые ее знакомые: «Не понимаю я всего этого. Их психо-логия мне совершенно непонятна. Кто они — дураки, сума-сшедшие или негодяи?» Старый меньшевик Лев Дейч описывал новый заговор правотроцкистских сил, о котором узнал из газет, как «кошмар» и утверждал, что не способен «понять психоло-гию этих лиц, что их побуждало, на что рассчитывали, к чему стремились». В разгар политических чисток 1937 года драма-тург Всеволод Вишневский заносил в дневник мысли о «врагах и их агентуре… Психология предателей… Вероятно, от неверия в силы народа, партии… Это пораженцы духа, злобные, мел-кие… Капитуляторы перед лицом капитала… Читаю о Ленине, его упорстве, воле» [117]. Как свидетельствуют дневники Виш-невского и Павловой, психология считалась чем-то ведущим к слабости и пораженчеству. В противоположность этому, созна-тельность давала людям ощущение цели и тем самым укреп-ляла силу их воли, благодаря которой они должны были пере-делывать мир в соответствии со своим сознательным замыс-лом. Никто не обладал большей силой воли, чем Ленин, самый сознательный из всех большевистских вождей. Изучая жизнь Ленина, Вишневский пытался позаимствовать часть ленинской железной воли и тем самым защититься от незаметного, но всепроникающего влияния контрреволюционного заговора. Авто-ры дневников считали волю явлением, смежным с субъектно-стью человека. Она «конденсировалась» путем направления не-организованных психофизических сил людей в соответствующее русло. Однажды активированная, она становилась самостоя-тельной сущностью, способной вывести Я на уровень субъекта истории. Дневник решал важнейшую задачу формирования и укрепления воли его автора. Анатолий Ульянов, выявляя в дневнике отрицательные черты своей личности (к числу кото-рых он относил неуправляемость и непоследовательность), объясняет их слабостью воли: «Сила воли… ее присутствие в человеке всегда должно обеспечить ему хорошую сознательную жизнь. Я не обладаю такой волей. Поэтому я (в порядке крити-ки) слабоволен, неусидчив, легкомыслен и тороплив. Нервность и вспыльчивость выбивают каждый раз меня из колеи. Да, воля — это все». Ульянов стремился к идеалу «чистой, математиче-ской» жизни, к которому собирался прийти благодаря «воле и политической насыщенности». Чтобы достичь этой цели, он решил следующее: «Конкретно я поставил перед собой задачу за период с 1 января по 1 марта 1933 г. изучить, по крайней мере, 6-томник Ленина, вдуматься в него, разделить с тобой [дневником] свои мнения и все неясные вопросы, возникающие при чтении» [118]. Владимир Молодцов, шахтер, который при-нял появление матери во сне за доказательство отсталости своей психологии, в следующей дневниковой записи поправлял себя: «Немного неправильно записывал о противоречиях воли и “сердца”. Противоречие чувствуется только когда в голове “хлеб”, “обеды”, “вставать”, “ложиться”. Внизу, в шахте, нет про-тиворечий, там единство, целостность — производство, уголь, выдать больше вагонов». Как только отдельный рабочий оказы-вался в сфере трудовой деятельности, его душа и психика подвергались двойной трансформации: они коллективизирова-лись, соединяясь с телом и чувствами трудового коллектива в целом, и организовывались в соответствии с планами и графи-ками пятилетки. Молодцов воспринимал этот процесс как рас-крытие возможностей своей рациональной воли. Благодаря ее триумфу он работал без напряжения, с величайшей самоотвер-женностью и ясностью цели: «Самое высокое чувство, которое мог испытывать за свою короткую жизнь — это сознание того, что я являюсь частицей горняцкого коллектива» [119]. Степан Подлубный описывал силу воли в категориях нравственного идеала: «Мне давно нравятся люди сильной воли. Какой бы человек ни был, но, если он большой силы воли, значит хо-роший». Подлубный усердно фиксировал ситуации, когда он чувствовал, что его воля укрепилась, но, в отличие от дневни-ка Молодцова, его дневник по большей части был летописью неудач. Подводя итог своего поведения на работе и вообще в жизни, он однажды пришел к выводу: «Не хватает силы воли владеть собой. В данный момент у меня большое, громадное, ужасное волевое бессилие. Вот причина всех бед и основной мой недостаток. Недостаток самый страшный, самый опасный, что может быть опасного в жизни. Так как от этого зависит все». Но дневник был не только историей болезни воли. Веде-ние дневника было и средством излечения от нее: Подлубный считал, что, заставляя себя регулярно делать записи в дневни-ке, он укрепляет свою волю [120]. Сила воли приобреталась в борьбе. Дневники 1930-х годов изобилуют указаниями на жизнь как непрерывную борьбу. Так, одна из записей в дневнике Мо-лодцова гласит: «Сейчас все спят… Славные ребята!.. Им сла-ва и честь. Как хорошо жить, борясь, и борясь, жить». Сель-ский партийный активист Александр Железняков описывает се-нокос, которым он руководил. Чтобы воспользоваться сухой по-годой, он заставил недовольных этим крестьян оставаться в поле до самого окончания работы: «Косили до 11 час. ночи, и поле было скошено. Луна сыграла большую роль и помогла мне решить эту трудную задачу. Спасибо партии. Она воспита-ла во мне твердость и решимость в борьбе побеждать в труд-нейших условиях. Радость большая!.. Я вспоминаю слова Мар-кса — Энгельса: “Счастье есть борьба!” А на утро опять дождь» [121]. Труд и борьба были необходимыми условиями формирования личности советского человека. Прикованный к постели и ослепший ветеран Гражданской войны Николай Ост-ровский, на основании собственной биографии написавший ро-ман «Как закалялась сталь», объяснял врачу: «Есть странные люди, которые считают, что можно быть большевиком, еже-дневно и ежечасно не работая над своей волей, над своим характером. Надо постоянно заниматься ими, чтобы не со-скользнуть в болото мелкобуржуазности. Настоящий большевик все время выковывает и отшлифовывает себя». Как бы в уни-сон с ним Всеволод Вишневский с сожалением отмечал, что не сумел делать записи в дневнике ежедневно. Это не дало ему добиться «более систематического движения». В другом месте он осмыслял паузы в процессе самосовершенствования как мо-менты стагнации и даже отката назад [122]. В нескольких днев-никах 1930-х подводятся итоги года, иногда именуемые «балан-сами», явная цель которых определить направление развития Я — рост или, наоборот, застой или упадок. В дневнике Подлуб-ного содержится яркий пример такой практики, который свиде-тельствует о том, что автор дневника выстраивал свою дея-тельность по образцу механизмов, функционирующих в общест-венной сфере: «30.12.1933. По всему Союзу и по всем странам подводятся итоги годичной работы. По всему Союзу, во многих городах, и в Москве, созываются конференции, съезды, и т.д., для подведения той же годичной работы». Подводя итог собст-венному развитию, Подлубный пользуется понятиями, почти полностью идентичными риторике официальных советских ра-портов. Запись в его дневнике, посвященная итогам года, и пе-редовица «Правды», резюмирующая годовые достижения стра-ны, основаны на одинаковом представлении о росте — личном росте Подлубного и «бурном культурном росте» советского об-щества. Единственное расхождение заключается в том, что ес-ли «Правда» утверждала, что у советских граждан наблюдается «резкий скачок сознательности», то Подлубный жалуется, что его сознание остается недоразвитым [123]. Конструирование или реконструирование Я Хотя понятия плана, сознательности, борьбы, психологии, идеологии и силы воли были характерны для большинства дневников того периода, эти дневники исходи-ли из двух качественно различных представлений о Я. Дневни-ки представителей низших слоев, преимущественно рабочих и крестьян, были направлены на формирование чувства собствен-ного Я там, где, по убеждению их авторов, раньше ничего не было. Между тем представители образованных слоев считали, что обладают развитым, но сомнительным с точки зрения ново-го времени Я, для изменения которого необходимы анализ и соответствующие коррекционные меры. Только представительни-ца образованных слоев могла писать как Вера Павлова, отец которой был управляющим фабрикой: «Мое Я последние дни было представлено детальному разбору с критикой и осуждени-ем (моему собственному)»[124]. Каждый советский человек, безусловно, переходил от старой жизни к новой. Рабочие и крестьяне тоже высказывались о конфликте между старыми и новыми нормами мышления и поведения, но лишь изредка кон-кретизировали проявления привычек прошлого (пьянство, ма-терщину, плохое обращение с женой) в полномасштабном обра-зе «старого человека», который должен умереть для того, что-бы возник новый человек. Подобные привычки были порожде-нием отсталости, результатом феодально-капиталистического по-рабощения психики трудящихся, которое подталкивало их к гра-ни «недочеловеческого» существования. Такой рабочий, как Анатолий Ульянов, считал свою врожденную грубость проявле-нием «животного» существования, «внутреннего зверя». Крестья-нин-рабочий Леонид Потемкин описывал необходимость рабо-тать над собой в категориях реального строительства: прежде чем приступить к сооружению завода, то есть завершенного Я, необходимо заложить фундамент и возвести леса. Главным для него было строительство, а не перестройка: он не предполагал, что придется разрушать старый остов или приспосабливать к новым условиям уже существующие части здания [125]. Траек-тория нарративов Потемкина и Ульянова проходила от недоче-ловеческого состояния к человеческому, от нечеловека к чело-веку. Никто из авторов дневников не выразил это лучше, чем активист колхозного строительства Железняков. Накануне 16-й годовщины Октябрьской революции он восклицал: Нет и не было и не будет счастливее нас поколения во всемирной исто-рии. Мы участники созидания новой эпохи! Опомнились ли вы, враги, окружающие нас со всех сторон, что мы 20 лет тому назад были ничтожной букашкой, ползающей по господским по-лям, и этот ничтожный человек, которого душил капитализм, осознал себя как класс и потряс весь мир до основания седь-мого ноября, 16 лет тому назад… Ничего нет выше, как быть членом, гражданином Советской страны и принадлежать к Ле-нинской, закаленной в боях коммунистической партии, руководи-мой в наши дни любимым вождем т. Сталиным, с которым мы вместе празднуем сегодня день великих побед технического прогресса. Если бы не Октябрьская революция, разве я так понимал бы жизнь, а разве мог бы променять личную жизнь на борьбу за общие цели? Нет! Тогда бы я был полуживотное, теперь я счастлив [126]. Евгения Руднева (родившаяся в 1920 году) высказывала ту же мысль в ее женском варианте. В но-ябре 1937 года, когда полным ходом шла подготовка к выбо-рам в Верховный Совет СССР, которым предстояло открыть дорогу в политическую жизнь молодому поколению граждан, ро-дившихся уже при советской власти, она отмечала: «Я живу полнокровной жизнью. И как мне не любить моей Родины, ко-торая дает мне такую счастливую жизнь? Ведь чем (именно чем, а не кем) была бы я, родившись до революции? Мало-грамотная девочка, быть может, уже невеста, собирающая ле-том помидоры, а зимой пекущая хлебы»[127]. Руднева утвер-ждала, что женщины из низших слоев общества были еще бо-лее угнетены, чем мужчины; кроме обычного угнетения, они ис-пытывали домашнее рабство. Поэтому освобождени женщин представляло собой максимально возможный прорыв в челове-ческом развитии: из недочеловеческого состояния — в ничем не ограниченную человечность. Напротив, представители обра-зованных слоев (включая «буржуазных» интеллигентов и стойких коммунистов) вынуждены были считаться с тем, что им прихо-дилось наполнять новым содержанием свои вызывавшие со-мнения у них самих личности, сформированные дореволюцион-ной культурой. Они понимали самопреобразование как уничто-жение в себе «старого человека» и воспитание «нового». В от-личие от рабочих и крестьян, которых отягощало далекое от культуры прошлое, представители интеллигенции страдали от избытка культуры, которую было необходимо очистить от несо-ветских качеств. По словам поэта Иоганнеса Р. Бехера, став-шего коммунистом в 1920-е годы, прежде чем вступить в «сра-жающуюся пролетарскую армию», ему следовало «сжечь мно-гое из того, чем он был обязан буржуазному происхождению… Долой восхваляемую и боготворимую “личность”. Долой искусст-венную внутреннюю и внешнюю рисовку, ее гипертрофирован-ность и парадоксальность, все капризные и изменчивые позы, характерные для “личности”». Уничижительно говоря о «лично-сти», Бехер и другие имели в виду признаки, характерные для «старой» интеллигенции: индивидуализм, нарциссизм, пассив-ность, мягкость и неспособность к борьбе, короче — «буржуаз-ность» [128]. Борьба со своей буржуазной сущностью была ве-дущей темой дневника писателя Юрия Слезкина; по сути, именно эта борьба и подтолкнула его к ведению дневника. На первых его страницах 46-летний Слезкин подводил итоги трех десятилетий своей литературной деятельности. Последнее деся-тилетие было особенно «неровным и путаным»: он ничего су-щественного не написал и не мог напечатать из-за своего «буржуазного» происхождения. Это десятилетие было ознамено-вано «болезненностью перестройки» и безуспешными попытками найти себя. В настоящем и будущем он был, однако, более уверен: «Передо мною последнее и вместе первое серьезное препятствие — совлечь с себя прошлое, осознать себя в на-стоящем, преодолеть инерцию своего класса. Сизифов труд, но разве то, что преодолевает сейчас наша страна, не стоит ей таких же усилий. Итак, новая моя — четвертая десятилетка… Пусть этот дневник будет моим свидетелем, моим укорителем и раскачкой в часы творческой усталости». Слезкин соединял профессиональный замысел выработки нового литературного стиля с собственным стремлением преодолеть буржуазное прошлое. Приверженный эстетике реализма, уходящей корнями в середину XIX века, он считал, что для того, чтобы написан-ное им было оправданно и достоверно, он сам должен оказать-ся в центре общественных преобразований, охвативших всю со-ветскую страну. Одной из причин отсутствия в его прежнем ли-тературном творчестве содержания и смысла было, по его мнению, то, что ему не удалось включиться в борьбу с «чело-веком прошлого» внутри себя, а потому он, в сущности, остал-ся буржуа[129]. Еще одного писателя «буржуазного» происхож-дения, Юрия Олешу, к ведению дневника подтолкнуло анало-гичное убеждение в способности автобиографического повест-вования повлиять на реальную жизнь. Олеша обратился к дневнику отчасти для того, чтобы создавать произведения в духе «литературы факта». С долей сарказма он замечал по поводу новой литературной моды, в рамках которой объявля-лось о смерти романа, а современной провозглашалась только документальная проза, такая как дневники: «Пусть пишут днев-ники все: служащие, рабочие, писатели, малограмотные, мужчи-ны, женщины, дети — вот клад для будущего!» Тем не менее Олеша вел дневник всерьез, а не только для литературного эксперимента. Он надеялся на то, что поиск фактов направит его сомнительное буржуазное Я на исторически верный путь и поможет оказаться в обетованном будущем. Однако примени-тельно к личной жизни Олеши приемы «фактографии» привели к несколько иному результату. К ужасу Олеши, ведение дневни-ка не оказало на него преобразующего влияния. Не став доку-ментальным подтверждением перехода в новый мир, запись фактов, которую вел писатель, превратилась в «бесполезную» фиксацию быта и, таким образом, лишь аккумулировала, а не рассеяла бремя прежнего, непреобразованного Я. Делая записи в дневнике и читая их, Олеша со страхом обнаружил фунда-ментальную «истину»: он «мелкий буржуа, который всю жизнь мечтал стать крупным собственником» [130]. Олеша упорно фиксировал не только свои мысли, но и соматические симпто-мы, с тревогой анализируя их смысл: как они определяют его положение на историческом пути? Неспособность мыслить как прогрессивный советский интеллигент и привести свое субъек-тивное Я в соответствие с объективными требованиями истории в конце концов вынудила его признать, что он является носи-телем «порочной» духовной и телесной сущности. Эта «ужас-ная» истина, отмечал он, имеет физиологический характер: она у него «в крови, в клетках мозга». В самом негативном вари-анте кризис личности Олеши вызывал страх смерти: «Я вынуж-ден прервать работу и принять ванну… В ванне. Жарко, страх умереть, прислушиваюсь: сердце, что-то с мозгом делается — не делается ли с мозгом — a? Очень много думаю о смерти. По почерку моему какой-то старичок определил, что я много думаю о смерти. Я слишком часто (почти постоянно) думаю о смерти болезненно!» В 1930 году, когда Олеша создавал этот насыщенный рассказ о своем упадке как индивидуума и как представителя общественного класса, ему было всего 30 лет. Но, живя в страхе смерти, он не мог с уверенностью смотреть в будущее. Вместо этого его тянуло в прошлое, из которого он не мог найти выхода. Постоянное копание в прошлом — еще одна особенность дневника Олеши — было одним из косвенных выражений исторического проекта, который, как он считал, оп-ределял его жизнь, как и жизнь всего советского коллекти-ва[131]. Хотя социальное происхождение дочери управляющего фабрикой Веры Павловой было сходно с происхождением Олеши, нарратив самопреобразования, представленный в ее дневнике, отличался верой и решительностью, неведомыми по-стоянно сомневавшемуся в себе Олеше. Безусловная сторонни-ца исторического материализма, Павлова применяла законы марксистской диалектики не только к анализу общественно-исторических явлений, но и к своему Я. Марксистская диалек-тика была особенно важна для ее интеллигентской индивиду-альности — как концептуальное средство, позволявшее ей раз-делить свою жизнь на «старую» и «новую» составляющие, про-следить за борьбой между ними и сохранить ценные элементы прежнего Я в диалектической спирали развивающегося созна-ния: В последние дни остро встали немалые вопросы — про-блемы даже. Проблема старого и нового — огромная, могущая поглотить много мыслей, много времени. Ведь эту проблему можно решать по-разному, а у меня она стоит в той плоскости — как объединить (диалектически) то старое, что хорошо, что мне близко, понятно, что МОЕ, то, что у меня от прошлого (в крови и от воспитания), то, к чему я стремилась — старый со-держательный интеллигентский дух вокруг и ВО МНЕ. Я чувст-вую в себе сильные ростки нового в отношении мировоззрения, отношения к различным сторонам жизни, в частности бытовой, моральной — (пример «3 буквы», сущность которых мне не чу-жда одной своей стороной). Но в том, что называют новым ду-хом, подчас так много пошлого, хамского, бессодержательней-шего. Оно не может быть приемлемо, это противно и отталки-вающе. Как примирить, соединить, связать крепко и прочно то, что должно быть моим из старого и из нового? Возможно ли это? Да. Продукт переходного периода — я[132]. Несмотря на то что Павлова признавалась в отвращении к части официаль-ной советской культуры, эти оговорки не ослабляли ее решимо-сти принять коммунистическую идею и то обещание личного спасения, которое она и только она предоставляла. Когда Пав-лова делала эту запись в дневнике, за нею ухаживал старший коллега, Александр Георгиевич Полежаев, настойчиво пригла-шавший ее к себе домой — насладиться коллекцией бабочек. Старомодный уют его квартиры, в которой как будто мало что изменилось после революции, напомнил Павловой родительский дом и заставил ее усомниться в том, что она может поддер-живать отношения с Полежаевым. В частности, она задавала себе вопрос, позволит ли ей брак с этим «старым интелли-гентом» осуществить план вступления в Коммунистическую пар-тию. В то же самое время Павлову привлекал другой учитель — некий Дулькейт. Сравнивая этих двух поклонников, Павлова проецировала вовне свое понимание раздвоенности собственно-го интеллигентского Я. Полежаев представлялся ей «флегма-тичным и неподвижным, без огня, без жизненной хватки, [он] скорей отступит, чем вступит в борьбу». Хуже того, он не умел руководить учащимися и жаловался на учительские обязанно-сти, которые считал «источником заработка — и только». Все в нем, как в личной, так и в профессиональной жизни, было глубоко реакционным. «Отношение к современности, сущест-вующему — отрицательное и сугубо отрицательное». Представ-ляя Полежаева воплощенным старым интеллигентом, Павлова могла изолировать остатки отживших интеллигентских ценностей в самой себе, с тем чтобы впоследствии расстаться с ними. Напротив, Дулькейт воплощал в себе новую личность, стать ка-ковой Павлова стремилась. Он представлялся ей «энергичным, горячим, вспыльчивым» и поглощенным работой. Павлова за-вершала свою оценку Дулькейта в испытанном марксистском стиле, переходя от его личных достоинств к их общественному смыслу: «Дулькейт новее, жизненнее и в общественно- полити-ческом отношении… Он по сути современен, входит в жизнь, отдает силы этой жизни, инт�Читать дальше
Интервал:
Закладка: