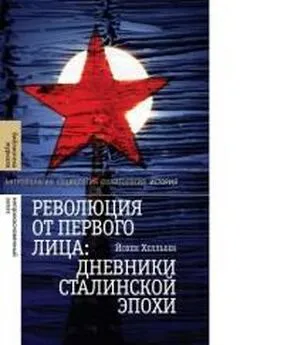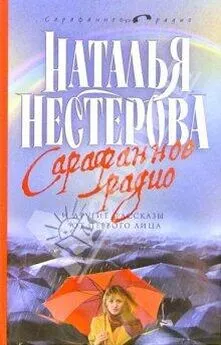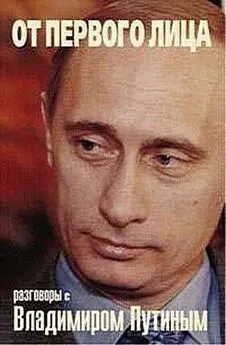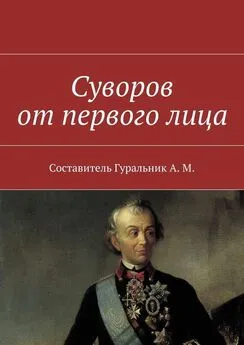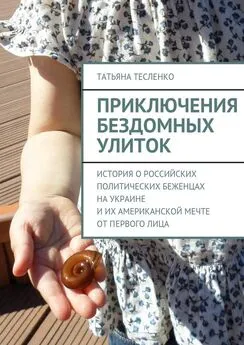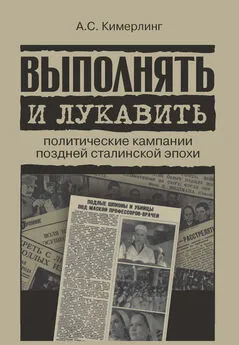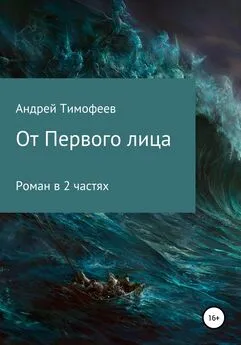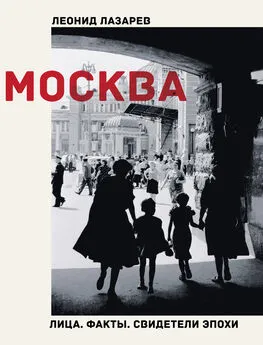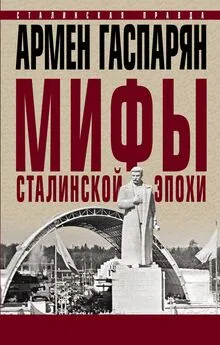Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Название:Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохен Хелльбек - Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи краткое содержание
Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА 2 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДНЕВНИК
Большевистский проект изменения человеческого Я несет в себе все черты «советской Реформации» [61]. Действительно, то, как большевики пытались распространить новое сознание по всей стране и превратить это сознание в предмет личного опы-та, напоминает попытки деятелей церковной Реформации соз-дать религию, сконцентрированную на индивиде. Как Реформа-ция XVI века, так и революция в Советской России были ори-ентированы на субъекта, призывая к созданию человека, рас-считывающего на самого себя. В случае Реформации этот че-ловек должен был контролировать свое душевное здоровье, а в советском случае — осознавать себя политическим субъектом, имеющим историческую миссию. Реформация вела к распро-странению дневников как учетных книг преобразованных христи-анских душ. В качестве личностной и общественной практики дневник приобрел особое значение в бурной религиозной атмо-сфере пуританской Новой Англии. Пуританские священники при-няли технику ведения дневника как способ работы над собой ради спасения и как средство распространения своей веры. Их автобиографические писания раскрывали личность и в то же самое время предписывали некие нормы. Они раскрывали лич-ность, поскольку темы паломничества и конфликта, скорби и благодати отражали опыт авторов дневников и являлись поро-ждением их самосознания. Они предписывали нормы, поскольку жанр дневника воспринимался как парадигма, в которую вписы-вались и в которой формировались «основные образцы благо-честивой жизни» и «в рамках которой следовало понимать [личный] опыт» [62]. Пуританские дневники велись прежде всего не как интимные документы, предназначенные исключительно для авторского самоанализа. Хотя дневник был инструментом спасения его автора и в этом смысле соответствовал пред-ставлению о своеобразии личности, пуританские святые, запи-сывая свои исповеди, всегда имели в виду более широкую ау-диторию. С точки зрения пуритан, возрождение личности и об-щины осуществлялось в ходе совместного паломничества к спасению. Это слияние субъективного, индивидуального Я с коллективом в поисках спасения весьма напоминает советскую концепцию выведения субъективного сознания личности на уро-вень объективной истины через включение в революцию. Но использовали ли советские коммунисты дневник как средство тотализации и индивидуализации своей идеологии? Судя по «Книжке красноармейца» периода Гражданской войны, по край-ней мере некоторые революционные активисты пытались ис-пользовать дневник в целях политического воспитания. Эта книжка выдавалась каждому красноармейцу, и в ней он должен был записывать сведения о полученном им оружии, питании и обмундировании. В конце книжки было оставлено несколько пустых страниц. На первой из них имелись заголовок «Для личных заметок» и инструкция: «Если можешь, веди дневник своей службы в Рабоче-крестьянской Красной Армии»[63]. Хотя не сохранилось ни одной книжки, которая бы свидетельствова-ла о том, как конкретно какой-либо красноармеец воспользо-вался местом, оставленным для личных заметок, предписание вести дневник вполне соответствовало общей стратегии Красной армии, направленной на ликвидацию политической неграмотно-сти бойцов и выработку в них чувства сопричастности борьбе, имеющей всемирно-историческое значение. В первое десятиле-тие после 1917 года дневник привлекал к себе внимание, осо-бенно со стороны ученых и представителей литературного аван-гарда, пытавшихся связать дневниковый жанр с делом револю-ции. Среди них были «педологи», революционно настроенные психологи и педагоги, посвятившие себя изучению ребенка. Предполагая, что у детей нет автономного сознания и что его может сформировать существующая общественная среда, педо-логи считали, что исследование детей позволяет непосредст-венно увидеть психофизические последствия революции. Психо-логи ценили дневники в особенности за их предполагаемую «подлинность». Поскольку дневник писался по собственной ини-циативе его автора, они предполагали, что он является по оп-ределению искренним и содержит прямое отражение психиче-ских процессов. «Анализ дневника позволяет изучить такие формы поведения, которые трудно было бы вскрыть в какой-либо иной форме». Безусловно, такой подлинности можно было достичь только в «правильном» дневнике, который определялся как результат регулярного ведения записей в модусе автореф-лексии [64]. Педологи публиковали юношеские дневники в дока-зательство определяющего влияния общественной среды на психофизическое развитие личности. Дневник немецкой девочки, первоначально опубликованный Психоаналитической ассоциаци-ей с центром в Вене, вышел в 1925 году в русском переводе с предисловием профессора Военно-медицинской академии. Как объяснял профессор, дневник, в котором описывалось пробуж-дение половых проявлений у девочки предпубертатного возрас-та, показывает, что ее родители и воспитатели, «находясь под гнетом ложных предрассудков и лицемерной буржуазной мора-ли», избегают «правильного» полового воспитания и оставляют детей «беспомощными» перед лицом одолевающих их половых инстинктов: «Книгу с интересом должны прочесть педологи, пе-дагоги, врачи, социальные работники вообще и родители; мно-гих она должна… заставить подумать над тем, как не следует воспитывать детей; с этой точки зрения содержание книги мо-жет быть полезно и в смысле пропаганды» [65]. Выход в 1926 году «Дневника Кости Рябцева» можно отчасти трактовать как советскую реакцию на появление дневника немецкой девочки. Этот вымышленный дневник, написанный Николаем Огневым (М.Г. Розановым), отличался таким жизнеподобием и привлека-тельностью, что со временем дважды публиковались его про-должения, а один из рецензентов задавался вопросом, не по-заимствовал ли просто Огнев материал из «подлинных» днев-ников. Костя — непослушный и недисциплинированный подрос-ток, и описание им таких тем, как жестокое обращение с деть-ми, онанизм и аборт, оказывается более ярким и шокирующим, чем грезы немецкой девочки; тем не менее критики изобража-ли его положительным примером для советской молодежи. Кос-тя — пролетарий с «коммунистическими убеждениями». Здоро-вая рабочая среда гарантирует правильность его общественных установок. Будучи хулиганом, Костя тем не менее различает «непролетарские» и «пролетарские» сумасбродства. Ни на одну минуту у читателя его жизнеописания не возникает сомнений в том, что в конце концов он возьмет под контроль свои ин-стинкты, которые приводят к анархическому поведению. Дневник завершается приемом Кости в комсомол. Дневник Кости, к ко-торому Огнев написал продолжения, выдержал несколько изда-ний и, безусловно, сыграл существенную роль в популяризации дневников среди советских читателей. В 1933 году 19- летний рабочий Леонид Потемкин сравнил свой дневник с дневником Кости Рябцева, и это сравнение оказалось явно не в пользу Потемкина, которому недоставало, по его собственному мнению, практического овладения жизнью: «…у меня лишь болезненные рассуждения. Нет практики, клокочущей общественной жизни. Нужно стать практиком жизни, нужно жить» [66]. Устремления педологов не ограничивались использованием дневников для показа отрицательного или положительного влияния обществен-ной среды. Педологи стремились создать корпус биографиче-ских текстов, которые бы одновременно свидетельствовали о социалистической направленности пролетарского государства и поддерживали такую направленность. В 1919 году директор Мо-сковского педологического музея Николай Рыбников обратился в Наркомпрос с настоятельной просьбой о создании биографиче-ского института, который бы занимался сбором и анализом дневников и других автобиографических материалов молодых советских людей. Его инициатива не была поддержана из-за недостатка средств, но Рыбников самостоятельно приступил к сбору автобиографических свидетельств молодых советских граждан. К 1928 году он собрал 120 тысяч ответов на состав-ленную им анкету для учеников младших классов, проживаю-щих в провинции. Его диагноз отличался трезвостью: лишь ма-лая доля этих учеников знала цель и историю революции, про-изошедшей десятью годами ранее. Кроме того, их ответы сви-детельствовали о том, что большинство авторов дневников в России происходили не из эксплуатируемых классов, с пред-ставителями которых предпочитали проводить опыты педологи, а из «буржуазной интеллигенции». Тем не менее педологи вы-ражали надежду на то, что «с ростом психологической культуры и повышением интереса к внутреннему миру [советская] днев-никовая литература получит значительно большее распростра-нение» [67]. Существуют некоторые свидетельства того, что еще в 1920-е годы ведение дневников использовалось в совет-ских школах как педагогический инструмент — не только для совершенствования речевой выразительности, но и как средство саморазвития. Отдельным ученикам и целым классам давались задания вести дневники. Примечателен в этом отношении дневник Льва Бернштейна, подростка, впоследствии ставшего известным физиком, действительным членом АН СССР. В его дневнике 1926 года, в котором видны следы учительских ис-правлений красным карандашом, описывается экскурсия всем классом на плотину Волховской ГЭС — первой из ряда великих советских строек: «Рабочий поселок Волховстроя — это пре-красное достижение советского рабочего строительства. На-стоящая Америка! Чистые большие улицы, по обеим сторонам — бараки, общежития для рабочих. На каждом перекрестке на столбе световое название улицы и №№ бараков… Рабочий по-селок Волховстроя — это образцовая коммуна рабочих, это черновой набросок будущего коммунистического общества» [68]. Дневник Бернштейна, кроме того, показывает механизм, при помощи которого учащимся следовало усваивать и интериори-зировать советские политические и социологические классифи-кации. При посещении района Старой Ладоги неподалеку от плотины перед ними было поставлено задание ознакомиться с «разными типами крестьян, в которых мы пытаемся уловить не-которые признаки расслоения, хотя они и не активно выдвину-лись в деревне». Им было необходимо научиться различать уг-нетаемых бедняков, середняков и богатых крестьян, зловещих угнетателей-кулаков. Интересно, что именно кулак более всего увлек учащихся рассказом о жизни при крепостном праве и на-ступлении революции, «когда наш брат, рабочий и крестьянин, правит матушкой-Россией». Учитель Бернштейна не снабдил восторженную характеристику этого крестьянина-угнетателя ка-кими-либо замечаниями, и это свидетельствует о том, насколь-ко еще идеологически «неочищенным» был период 1920-х го-дов, когда было можно делать заявления, которые в 1930-е го-ды, в обстановке исторически более развитого социализма, бы-ли бы сочтены еретическими и подрывными для коммунистиче-ской идеологии. Важность ведения дневников подчеркивалась также «Левым фронтом искусств» (ЛЕФом), группой советских писателей-авангардистов, объединившихся в целях создания пролетарской культуры. Особой целью ЛЕФа было распростра-нение новой литературной формы — «литературы факта». Ле-фовцы обосновывали свой призыв к новой литературе утвер-ждением о том, что традиционный литературный стиль, симво-лизируемый буржуазным романом, устарел. Роман характеризо-вался главным образом оторванностью от интересов и практи-ческих забот текущей жизни; он мог лишь мистифицировать чи-тателей, воздействуя на их воображение. Наоборот, «наш эпос — газета… О каком романе — книге, о какой “Войне и Мире” может идти речь, когда ежедневно утром, схватив газету, мы по существу перевертываем новую страницу того изумитель-нейшего романа, имя которому наша современность. Действую-щие лица этого романа, его писатели и его читатели — мы сами»[69]. ЛЕФ отстаивал документальную, или фактографиче-скую, литературу, охватывавшую широкий круг источников, сви-детельствовавших о реализации революционной программы со-ветского государства. Речь шла прежде всего о человеческих документах: биографиях, воспоминаниях, описаниях путешествий, автобиографиях и дневниках. Объединял эти тексты «факт», ко-торый является «первой материальной ячейкой для постройки здания». В противоположность созерцательному идеализму бур-жуазной литературы это была «новая (слово “эстетика” пора бы и отбросить) наука об искусстве, [которая] предполагает из-менение реальности путем ее перестройки... Отсюда — и упор на документ. Отсюда — и литература факта» [70]. Неявно ЛЕФ поощрял каждого пролетария ежедневно вести дневник, в кото-ром будет документально фиксироваться процесс перестройки и самоперестройки, происходящий во всех сферах советской жиз-ни. Календарная сетка дневника была пригодна для разверты-вания лефовской программы ежедневного документирования строительства будущего. Но эта программа работала только в том случае, если «факты» советской жизни как на обществен-ном, так и на личностно- психологическом уровне свидетельст-вовали о постоянном, непрерывном развитии. Показательным для коммунистических концепций дневника представляется то, что самое широкое обсуждение ведения дневников в тот пери-од происходило на строительстве московского метро. Москов-ское метро занимало центральное место в проекте Максима Горького «История фабрик и заводов». Как и в случае всех ос-тальных заводов и строек, охваченных этим проектом, для со-бирания документов «Как мы строили метро» была создана редколлегия из профессиональных писателей, задача которой состояла в том, чтобы подтолкнуть рабочих писать воспомина-ния и в конечном счете опубликовать эти воспоминания в доку-ментальном многотомнике. Редакторы «Как мы строили метро» особо поощряли ведение рабочими «производственных дневни-ков», лучшие из которых предполагалось включить в задуман-ные тома. Дискуссии в редколлегии проливают свет на то, ка-кими ее члены видели формы и цели ведения дневников на стройплощадке и за ее пределами. Во-первых, дневник высту-пал как дисциплинирующий прием в процессе труда: он должен был поощрять автора-рабочего «упорядочить, систематизировать и осмыслить свою работу для того, чтобы усвоить и закрепить [трудовой] опыт». Один из редакторов, Леопольд Авербах, упо-добил ведение дневников партийной чистке: «Анализируется в себе все — что и как. Дневник должен быть написан так, что-бы рабочий или другой человек спросил себя, что ценного он сделал сегодня» [71]. Редакторы считали ключевой характери-стикой дневника его способность наводить на размышления о себе. «Дневник — способ ежедневного подведения итога своей деятельности, осмысления своей жизни». Будучи не просто от-четом о работе, дневник рабочего должен «показывать процесс развития целостной личности». В конечном счете редакторы хо-тели, чтобы авторы дневников связывали свою жизнь со строи-тельством и понимали, что их индивидуальная жизнь развивает-ся в контексте построения социализма. Этот процесс представ-лял собой одновременно объединение (в смысле открытия сво-его Я для коллектива) и самосовершенствование (в смысле проявления творческих способностей). С одной стороны, «каж-дая [личная] биография должна [была] стать частью биографии метро». С другой — издание, посвященное строительству, как ожидалось, будет способствовать формированию личности каж-дого из авторов. Акт «коллективного творения» должен был «обогатить индивидуальность каждого творца»[72]. Обсуждая советские производственные дневники, редакторы стремились сделать их непохожими на «буржуазные» — общественно бес-полезные записи, заполненные бесплодной болтовней. «Почему мы часто смотрим на дневник свысока? — спрашивал Авербах. — Потому что это понятие заставляет вспомнить гимназистку, которая садится за стол и записывает всякую чепуху». Наобо-рот, подчеркивал Авербах, советский производственный дневник прочно вписан в обстановку сосредоточенных коллективных уси-лий, придающих ему направление и полезность. «В нашем слу-чае дневник является частью системы» [73]. Помимо включения их авторов в советский проект, ведение дневников имело и общественную цель. Дневники и воспоминания должны были обсуждаться в рабочих бригадах и публиковаться в стенгазетах, чтобы воспитывать и мобилизовывать отстающих членов кол-лектива. Именно поэтому редакторы настаивали, что дневники должны вести в первую очередь «ударники», рабочие, перевы-полняющие производственные нормы. Их замечательные трудо-вые рекорды указывали на развитое политическое сознание и давали надежду, что они будут вести дневники, особенно под-ходящие для включения в тома, увековечивавшие строительство метро. Ударники должны были также поощрять к ведению дневников и работе над собой других, менее успешных рабочих [74]. Советский производственный дневник, по замыслу родона-чальников этого жанра, должен был быть одновременно чрез-вычайно личным документом, раскрывающим внутреннюю сто-рону личности, и публичным, воспитательным текстом; подобно пуританскому дневнику, он сочетал в себе духовную и пропа-гандистскую функции. Редакторы не рассматривали производст-венный дневник — или жанр дневника в целом — как чисто личный документ. Скорее он понимался как средство и орудие формирования Я, определявшегося в категориях слияния инди-видуального и коллективного, субъективного и объективного. Предполагая, что рабочие не знакомы с дневниковым жанром и не знают, как вести «творческие дневники», редакционная кол-легия разработала подробное руководство по составлению та-ких дневников. В нем перечислялся ряд вопросов, на которые в ходе своего анализа должны обращать внимание авторы дневников: «Партия, ее руководящая роль… роль инженера; облик комсомола; международная жизнь; классовая борьба на Метрострое; женщины и метро; культура и быт; вся Москва строит метро, весь [Советский] Союз строит метро». Кульмина-цией этих предписаний был призыв к правдивому отражению действительности: «Существенное требование к дневнику — его максимальная правдивость, искренность и подлинность… Ника-кой псевдолитературности… Пишите правду!» Правдивости сле-довало добиваться за счет верного следования стилистическим и тематическим указаниям редакторов. К числу этих указаний относились правильное понимание автором дневника политиче-ской жизни и его способность занять правильную позицию по отношению к ее развитию, будь то «классовая борьба на Мет-рострое» или «международная жизнь». Правду можно было ощутить только как внутренний опыт, преодолевающий слой внешних видимостей, и местом, в котором это можно было сделать, являлся дневник: «Дневник отражает наше осознание мира. Следует выйти за пределы внешней видимости, за пре-делы того, что схватывает наш глаз. Необходимо понимать со-бытия, связывать их. Должна существовать центральная тема. Критерий качества дневника — его правдивость». Правдивое отражение действительности, подчеркивали редакторы, не долж-но приводить к ее приукрашиванию. Автору дневника было не только можно, но и нужно фиксировать отрицательные жизнен-ные проявления. Но он должен был также объяснить происхож-дение и природу этих недостатков [75]. Результаты описанного начинания не удовлетворили его инициаторов. Лишь часть ра-бочих Метростроя вняла призыву вести дневники. Многие днев-ники, полученные редакторами, были безграмотно написаны, изобиловали орфографическими ошибками и косноязычными выражениями. В других отсутствовала глубина понимания собы-тий, которой стремились добиться редакторы, что подтверждало их первоначальные опасения, что дневники превратятся в про-стые «журналы учета» того, «сколько кубометров грунта изъя-то» в течение каждого дня. Повествования были «поверхност-ными» и «сухими», им не хватало «проникновения в глубину», они «не доходили до сути дела». Но хуже всего было то, что они оставались на уровне «бесполезного» описания или созер-цания, не выдержав проверки на «правильность» и оказавшись не в состоянии способствовать повышению эффективности тру-да рабочих. Грандиозный проект создания коллективной био-графии Метростроя не принес ожидаемых плодов [76]. В конеч-ном счете редколлегия выпустила два тома воспоминаний и ав-тобиографических очерков (но не дневников), посвященных строительству московского метро [77]. Редакторы были вынуж-дены признать, что реализация плана стимулирования создания производственных дневников, которому «придавалось очень большое значение», оказалась гораздо более длительным де-лом, чем можно было предположить. И все же они не потеря-ли веры в важность «дневникового» инструментария. Один из редакторов замечал: «Надо ли вести дневники? Безусловно. Они могут дать значительные результаты, но эти результаты не будут получены сразу. Дневник требует времени, но материал нам нужен уже сейчас». Это итоговое замечание выдает ха-рактерные сомнения редакторов. В некоем отдаленном буду-щем, считали они, граждане социалистического государства с развитым социалистическим сознанием станут вести дневники требуемого типа. Однако сейчас такие дневники не могут быть созданы без полномасштабного редакторского контроля и вме-шательства. Жаждавшие как можно быстрее задокументировать исторические преобразования, осуществлявшиеся советской вла-стью, редакторы обратились к воспоминаниям рабочих, которые по сравнению с дневниками быстрее писались, легче контроли-ровались и давали значимые биографические результаты [78]. Если советским рабочим в целом еще не хватало политической грамотности для ведения «правильных» дневников, то как об-стояло с этим дело у коммунистов, вроде Дмитрия Фурманова, политическая сознательность которых не вызывала сомнений? Фурманов, как и другие представители радикальной интеллиген-ции, был поборником ведения дневника [79]. Но даже для него оно было противоречивым занятием. Он неоднократно выражал тревогу по поводу того, что ведение дневниковых записей при-водило его к чрезмерному акцентированию разнообразных ас-пектов личной жизни, тем самым отрывая от революции и судьбы советских людей. Своим акцентом на личных эмоциях, на «любви, страдании, радости, воспоминаниях, ожиданиях» эти записи напоминали ему дневник Николая Второго, отрывки ко-торого он читал в какой-то газете в 1917 году: «Покушал, про-шелся по садику, полежал, светило солнышко, побранился, и т.д. и проч.» Но от последнего Романова, спешил добавить Фурманов, его принципиально отличало то, что бóльшая часть его жизни была посвящена великому делу Революции, однако дневник не передавал этой приверженности. Фурманов был убежден, что дневник не может передать всей сути его жизни [80]. Этот конфликт между личной лирической сферой и эпи-ческой «жизнью» не нашел отражения в дневнике литературно-го героя Фурманова — Федора Клычкова. Дневник Клычкова монолитен — в нем звучит голос человека с развитым интел-лектом, приверженного общественной пользе и революционному действию. Таким Фурманов и представлял себе дневник иде-ального коммуниста. Коммунисты продолжали высказывать пре-достережения по поводу дневников и в начале 1930-х годов, хотя к тому времени они уже стали активно ссылаться на «полнокровную личную жизнь» нового социалистического чело-века. Однако сохранялись сомнения в том, является ли днев-ник подходящим инструментом самообучения и индивидуализа-ции в советских условиях. Комсомольский активист в середине 1930-х годов упрекал друга за утверждение, что «человек нахо-дит путь своего развития при помощи дневника, посредством организации и изучения собственного Я». «Нет, дорогой мой, самое ценное в жизни человека работа, а не дневник… Ибо знание своей работы и любовь к ней… слияние с многомилли-онным коллективом — основа современного обучения и само-обучения. А дневник — не способ самообучения, а способ са-мокопания. Он подходит “интеллигентам” (в дурном смысле слова), “изучающим” себя и зарывающимся вглубь своей психи-ки: таков я, жалкий и слабовольный человек; в этом оплош-ность, которую я допустил» [81]. Соглашаясь со своим коррес-пондентом в том, что коммунист должен «организовывать» свою психическую жизнь, чтобы координировать ее с жизнью коллек-тива, комсомольский активист тем не менее критиковал дневник как бесполезный и даже вредный инструмент. Будучи средством чистого самоанализа, дневник чреват отрывом мысли от дейст-вия, души от тела, а личности — от коллектива. Сам по себе акт ведения личного дневника мог ослабить главное в комму-нисте — силу его воли, которой была необходима постоянная подпитка коллектива и трудовой деятельности. Таким образом, дневник обладает страшной способностью превращать коммуни-стов в буржуазных субъектов. Контраст между коммунистической силой и буржуазной слабостью к тому же поддерживал оппози-цию между такими предположительно мужскими качествами, как твердость, рациональность, приверженность к коллективному действию, и женской истерией, нарциссизмом и общественно бесполезной болтовней. Последние характеристики иногда ото-ждествлялись с дневником как литературной формой. Дневник, отмеченный разлагающей способностью делать коммуниста сла-бым, буржуазным и женственным, не относился к числу основ-ных форм «работы над собой», пропагандировавшихся комму-нистическим режимом на протяжении 1930-х годов [82]. Грань 1920-х и 1930-х годов была ознаменована переходом от перио-да компромисса и исторической «засоренности» сознания к стремлению вступить в завершающую историческую эпоху мак-симальной чистоты. Этот переход затронул как читательскую аудиторию, так и сам стиль чтения дневников. Основными чита-телями и аналитиками дневников в 1920-е годы были педологи, выводившие погрешности сознания, проявлявшиеся в дневниках, из социальной среды все еще несовершенной советской со-временности. В 1936 году, когда все классовые антагонизмы в советском обществе, как провозглашалось, были преодолены, педологию запретили. Теперь основным интерпретатором днев-ников стал НКВД [83]. Сотрудники НКВД анализировали дневни-ки, изъятые во время обысков в квартирах подозреваемых в контрреволюционной деятельности, на предмет признаков субъ-ективного уклона или оппозиции единственной исторической формации социализма, воплощенной советской властью. Слу-жащие НКВД не получали педологической или литературной подготовки, но полностью разделяли убеждение педологов и советских писателей в том, что дневник обнаруживает правду о его авторе — либо в прямом смысле, либо при прочтении это-го текста «наоборот». В последнем случае НКВД предполагал, что враги-контрреволюционеры маскируются под коммунистов и что их лояльные коммунистические дневники представляют со-бой часть этой сложной маскировки [84]. В двух значительных случаях дневники коммунистов, обвиненных в контрреволюцион-ной деятельности, публично цитировались для разоблачения их нравственно- политического облика. Первый случай касался профсоюзного лидера и соратника Михаила Томского Бориса Козелева, в конце 1920-х годов заподозренного в правом укло-не. В своем дневнике Козелев саркастически комментировал то, как Сталин хитростью, одного за другим побеждал противников и укреплял политический культ собственной личности. Этот дневник был обнаружен пьяным коллегой, которого Козелев привел к себе домой и уложил в своем кабинете, чтобы тот протрезвел. Коллега нашел дневник в ящике стола Козелева и передал его в ОГПУ (советскую тайную полицию, в 1934 году вошедшую в состав НКВД), а оно направило его в Политбюро. Фрагменты из дневника появились в советской печати, осудив-шей автора за «антипартийные выходки». Кроме того, дневник обсуждался на XVI партконференции в июне 1930 года, на ко-торой определилась судьба «правой оппозиции». Козелев, ис-ключенный из партии, признал по крайней мере некоторые из обвинений: в знак покаяния он пошел работать металлистом на завод «Серп и молот», а осенью 1930 года уехал в Магнито-горск помогать строить этот город металлургов. Он был аресто-ван в 1936-м и расстрелян в 1937 году [85]. Еще одним днев-ником, интенсивно изучавшимся коммунистическим руководством и НКВД, был дневник Леонида Николаева, разочарованного коммуниста, в декабре 1934 года застрелившего Кирова, что послужило предлогом для начала кампании террора против прежних противников Сталина, включая Томского и Козелева. После ареста Николаева дневник нашли в его портфеле. Днев-ник, обильно цитировавшийся в отчетах о расследовании убий-ства, служил основным свидетельством процесса внутреннего вырождения, приведшего к тому, что коммунист убил своего товарища. В дневнике Николаев описывает свое отчаяние по-сле получения партийного выговора в начале 1934 года и то, как оно привело его к сознательному решению совершить на-падение на коллективный орган, из которого он был исключен [86]. Ни в случае Николаева, ни в случае Козелева прокуроры не вменяли им в вину сам факт ведения дневников. Вместо этого они сосредоточивались на том, чтó выявили эти дневники в их авторах. Хотя коммунист-наблюдатель, возможно, обнару-живал причинную связь между скрытным ведением личных дневников и состоянием субъективного вырождения, никто не утверждал прямо, что вырождение стало следствием самого ведения дневника. Это дополнительно свидетельствовало о том, какие противоречия вызывал в воображении коммунистов днев-ник, воспринимавшийся то как законное средство самосовер-шенствования, то как сугубо буржуазное занятие. Несмотря на дух самостоятельности и активности и на стремление к инди-видуации, характеризовавшие и большевистскую революцию, и пуританство XVII века, эти движения преследовали разные це-ли. Пуритане придавали основное значение отношению верую-щего христианина к его душе. По определению душа падшего человека греховна, но признание и разоблачение своего греха путем бдительного наблюдения за собой были ключом к спасе-нию человека в посмертной вечной жизни. Календарная сетка и повествование от первого лица придавали дневнику силу еже-дневной записи суда личной совести христианина над его пре-грешениями. Как форма ежедневного диалога с собой, практика ведения дневника была необходимым элементом работы, на-правленной на спасение; отсюда — центральное, с точки зре-ния пуритан, место дневника и как средства самосовершенст-вования, и как инструмента пропаганды. Напротив, большевист-ская революция была ориентирована не на посмертное сущест-вование, а на переделку земного мира. Поэтому советские коммунисты стремились добиться всеобщей сознательности, чтобы побудить граждан к осознанному действию. В противопо-ложность заботе пуритан о внутреннем мире как цели в себе и для себя, советская культура наделяла высшей ценностью внешнюю сознательную деятельность. Осознанное действие предполагало познание себя и овладение собой, организован-ную психофизическую жизнь. В этом смысле внутренний мир был тоже важен, но лишь как ступенька на пути к акту созна-тельного труда. Сознательность и действие как меры ценности личности в Советском Союзе являлись также важнейшими кри-териями, в соответствии с которыми определялась ценность ведения дневника. Ведение дневника было законным и ценным занятием, если автор использовал его для укрепления своей умственной приверженности труду в советском коллективе. Мож-но утверждать, что производственный дневник, предусматривав-шийся редакторами сборников, посвященных Метрострою, был идеальным советским дневником: его цель заключалась в том, чтобы способствовать дневниковому осмыслению трудовой сре-ды и тем самым насыщать физический труд душевной самоот-дачей. Трудовая среда и коллектив в сочетании с руководством со стороны редколлегии гарантировали безусловную направлен-ность мыслей авторов дневников на осознанное действие. Но для этого требовалось, чтобы дневники вели политически гра-мотные люди, а таких на строительстве московского метро бы-ло мало. Что касается дневников, которые писались вне трудо-вой среды и не под бдительным оком коллектива, то в них, наоборот, заключалась опасность не укрепления, а ослабления коммунистической воли авторов. Здесь существовал риск пред-почтения рефлексии действию, а поэтому такие дневники оце-нивались неоднозначно и с некоторой долей подозрительности. Это помогает объяснить, почему дневники не находились на магистральной линии политики субъективации, проводившейся большевистским государством. Авторы советских дневников соз-давали свои личные самоотчеты, не имея четких предписаний наподобие тех, которые были характерны для пуританского дневника. У них не было уверенности в пользе дневника, и они не знали, как «правильно» его вести. Большинство из них вели дневники по собственной инициативе, а некоторые открыто жа-ловались на отсутствие официальных инструкций по организа-ции эффективной работы по самосовершенствованию. Поэтому анализ подобных дневников показывает, до какой степени люди, действуя по своей воле, творчески вписывали себя в неопре-деленную матрицу революционной субъективации, самостоя-тельно вырабатывая некоторые базовые категории и механизмы самореализации в советском духе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: