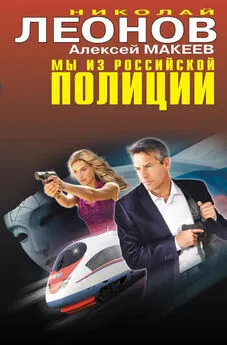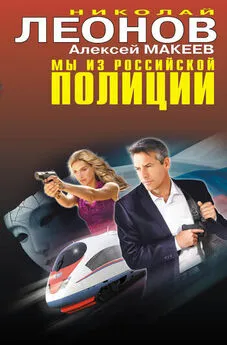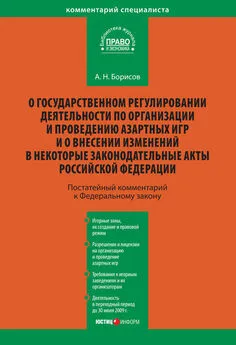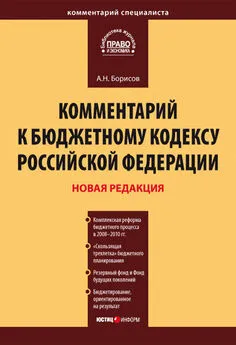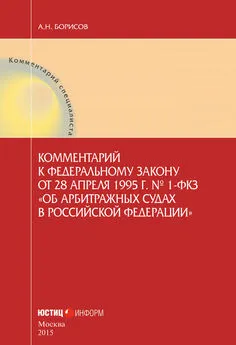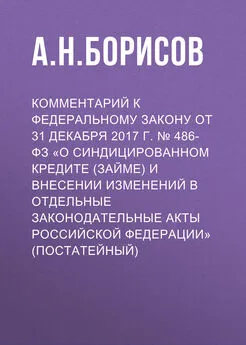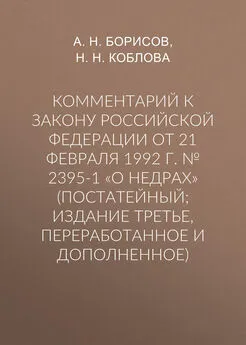Александр Борисов - Три века российской полиции
- Название:Три века российской полиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09033-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание
Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?
В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.
Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Полицейский надзиратель Якутска
В Сибири долгое время после судебной реформы 1864 г. полиция продолжала осуществлять предварительное следствие по уголовным делам. С некоторым запозданием там начал распространяться институт полицейских урядников — введен повсеместно 1 августа 1902 г.
К особенностям организации полиции Сибири относится и то, что штатная численность здесь была еще более неполной, чем в европейской России. В качестве примера может служить Ачинский уезд. В 1913 г. его население составляло 196 193 человека. В состав уезда входили г. Ачинск (11 158 человек) и четыре стана, в которых проживала основная часть населения. Первый стан (43 005 человек) включал шесть волостей. Полицейским управлением руководил становой пристав. В его распоряжении находилось 203 полицейских чина: 4 конно-полицейских урядника, 88 сотских и 111 десятских. Второй стан (62 850 человек) также состоял из шести волостей. Приставу подчинялись 179 полицейских: 7 конно-полицейских урядников, 64 сотских, 111 десятских. Третий стан состоял из семи волостей с населением 50 780 человек. В распоряжении пристава находилось 147 подчиненных: 3 конно-полицейских урядника, 50 сотских и 94 десятских. Четвертый стан (33 478 человек) делился на три волости. Полицейскую власть осуществляли 3 конно-полицейских урядника, 49 сотских, 129 десятских. Общая численность личного состава полиции в уезде составляла 707 человек. Однако, учитывая размеры территории, разбросанность населенных пунктов, архаичность существовавшего порядка комплектования сотских и десятских, реально можно было рассчитывать только на 14 урядников, обслуживавших 22 волости и одно управление [417].
Если бы полиция Канского уезда в составе Енисейской губернии формировалась по оргштатным нормативам европейской России, то общая полиция состояла бы, кроме исправника и его помощника, из 7–8 приставов, 29 урядников и 120–160 пеших и конных стражников, не считая сотских и десятских. В действительности же в 1914 г. Канская уездная полиция состояла из исправника, помощника исправника, 4 становых приставов и 17 полицейских урядников. На каждого пристава приходилось в среднем по 240 населенных пунктов и 70 тысяч человек, а на каждого урядника — 57 населенных пунктов и 17 тысяч человек, причем населенные пункты были расположены друг от друга на значительном расстоянии. В Енисейской губернии один урядник должен был обслуживать почти 40 тысяч км². Плотность населения Енисейской губернии в 1907 г. составляла один человек на 3,7 км². При таком положении дел урядники физически не могли справляться с возложенными на них обязанностями.
Перегружены были не только полицейские, несшие службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, но и канцелярские работники. В конце XIX — начале XX в. население Сибири быстро увеличивалось, и нагрузка на полицию росла. Отчеты с мест свидетельствуют, что канцелярия Канского уездного полицейского управления работала без выходных по 12–13 часов в сутки. Только в 1913 г. оттуда было отправлено 63 тысячи документов [418]. Штат же ее состоял из шести человек: секретаря, трех столоначальников, регистратора и писца.
Не удивительно, что при такой нагрузке и низком уровне материального обеспечения текучесть кадров была высокой и должности урядников в Канском уезде оставались вакантными по несколько месяцев. Некомплект городовых в начале века в Канске доходил до 60 %, в Минусинске — до 30 %. Нехватку штатных полицейских пытались компенсировать возрождением городской полицейской повинности. В некоторых городах, по сути дела, вернулись к практике XVII, а то и XVI в. В 1866 г. в Красноярске ввели ночной караул из расчета один караульщик от десяти дворов каждой улицы, дежурили по очереди. «Ночной дозор», как его часто именовали в документах, только в 1880-е гг. начал подавать сигналы свистком, а до этого использовалась, как в стародавние времена, трещотка.
Уровень преступности и иных правонарушений в Сибири был гораздо выше, нежели в европейской России. О проблемах борьбы с ними, в том числе обусловленных наличием большого числа ссыльных, говорят исследования тех лет.
«Поселенцы в одиночку много смирнее. Зато там, где их скапливается много, в городах и крупных селениях, они организуют шайки и отравляют преступным ядом окружающее население. Ни один крупный грабеж, убийство, воровство в Сибири не обходятся без переселенческой закваски.

Полицеймейстер Красноярска М. И. Соколовский, 1891 г.
Ссыльные являются начальниками, организаторами и учителями всякого рода татей. А те поселенцы, которые приобрели оседлость или занялись ремеслом, торговлей, извозом, являются всегда почти пособниками, укрывателями, притонщиками и покупщиками краденого.
Да иначе и быть не может. Крепко привитая в остроге арестантская мораль обязывает их покрывать товарища, дать ему приют, помочь в беде деньгами, пищей, указаниями. Иначе ему самому угрожает опасность быть убитым или спаленным ими. Трудное экономическое положение новоселов из поселенцев часто толкает их принять участие в дележе награбленного даже при отсутствии природных хищнических инстинктов [419]…
А дальше петля затягивается все туже!
Максимов, Ядринцев — каждый независимый исследователь Сибири, каждый номер местных газет приводят длинные списки преступлений бродяг и ссыльных в прошлом и настоящем. Спешу подтвердить то же самое. Большинство преступлений, раскрытых в мое время в Якутской области, совершено уголовными ссыльными.
Они организовали там великолепно конокрадство, ради чего постарались занять все перевозы на реках, непосредственно беря их в откуп у инородцев или через “своих” якутов. Они организовали, при соучастии подгородних якутов, ночные разбои под Якутском, державшие в страхе весь город. Бежавший из тюрьмы ссыльный татарин грабил явно на дороге и убил днем сторожа в доме купца Соловьева. Главный штат “спиртоносов” (торговцев контрабандным спиртом и краденым золотом) состоит, по общему признанию, из поселенцев. Витим и Мача полны притонов, где гнездятся, главным образом, бродяги и ссыльные. Я случайно попал в такой притон, провел в нем сутки и лично в этом убедился. Существуют специально сибирские формы разбоев. В Иркутске в 1894 году гуляла в сумерки по улицам “кошевка” — сибирские просторные сани, запряженные тройкой бойких лошадей. Сидевшие в ней молодцы мчались с песнями по улицам, хватали на аркан прохожих, увозили и обирали их. Так была увезена, раздета догола, изнасилована и брошена за городом в снег девушка. Не помогали ни усиленные патрули, ни казачьи разъезды. Разбойники как-то узнавали о их появлении и пути следования и грабили стороной, часто в соседней улице. Разъезды “кошевки” прекратились только после раскрытия и ареста шайки поселенцев, скрывавшейся в старом, нежилом доме на главной улице, недалеко генерал-губернаторского дворца. Открыты они были не полицией, а случайным прохожим, заметившим в доме поздно ночью огонек. В то же приблизительно время такая же “кошевка” пошаливала в Томске, появилась на некоторое время в Красноярске… О такой же “кошевке”, в Ишиме, в 1876 г. пишет Н. Ядринцев и о таком же насилии над девушкой. Это излюбленный способ “срезчиков чаю”, среди которых тоже видную роль играют ссыльные. В “Восточном oбозрении”, в № 38, 1891 года, помещено описание казни беглокаторжного Алексеева за целый ряд убийств и грабежей в Иркутске и в окрестностях с шайкой подобранных товарищей. Такая же шайка оперировала в том же Иркутске два года спустя, и во главе ее опять стоял поселенец Червинский, повешенный в 1893 году… И так можно бы продолжать до бесконечности… Смертные казни, конечно, не помогали. Когда я в 1903 году проезжал через Иркутск в Японию, я нашел те же знакомые картины осадного положения жителей — особенно по вечерам и на окраинах города — шайками хулиганов. Когда пришлось мне съездить ночью в слободку, населенную поселенцами, меня чуть не убили: я попал невзначай на повороте улицы под перекрестный огонь двух перестреливавшихся компаний. Жалобы на грабежи товаров на Сибирской железной дороге не прекращаются [420].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: