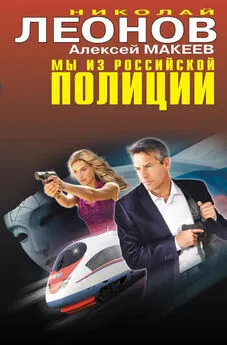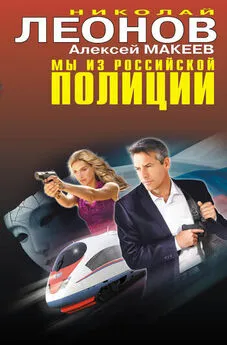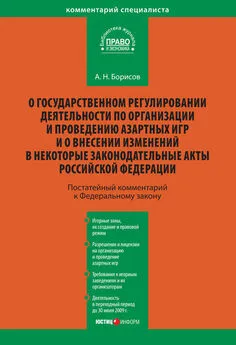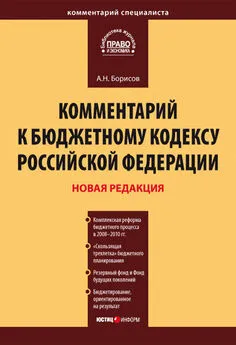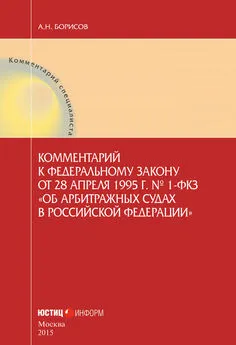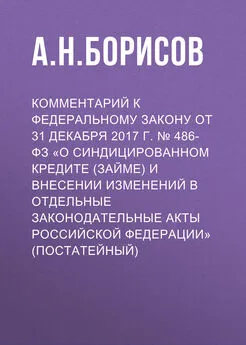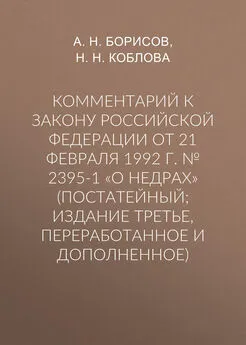Александр Борисов - Три века российской полиции
- Название:Три века российской полиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09033-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание
Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?
В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.
Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Ф. Н. Глинка
В 1831 г. среди жителей Санкт-Петербурга оживленно обсуждались действия полиции в связи с появлением в столице случаев заболевания холерой и связанной с этим паникой среди населения, приведшей к массовым беспорядкам. Многие считали, что во многом именно действия полиции провоцировали массовые беспорядки. Сам министр внутренних дел А. А. Закревский в докладе императору о причинах беспорядков в столице признал, что часто они происходили «оттого, что полиция брала в холерные больницы пьяных и здоровых и грозила тащить туда больных другого рода, а за деньги выпускала первых и оставляла в покое последних». В заключение своего доклада Закревский добавил: «Отзыв мой основан на сущей правде, памятной жителям Петербурга» [470].
Критически оценивал деятельность полиции в столице и А. С. Пушкин. В 1833 г. он отметил в дневнике: «Улицы не безопасны. Сухтелен (граф, посол России в Швеции. — Авт .) был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, видимо, занимается политикой, а не ворами и мостовою. Блудова (министр внутренних дел в 1832–1839 гг. — Авт .) обокрали прошедшей ночью» [471].

А. С. Пушкин
Недовольство состоянием и деятельностью полиции высказывали многие крупные государственные деятели, чье мнение было авторитетно для общества. Так, М. М. Сперанский, говоря о необходимости реформы полиции, в то же время признавал, что это трудно сделать в ближайшее время, так как большая часть полицейских служащих малограмотна и не способна достойно выполнять свои обязанности [472].
Остроумно, но еще более резко охарактеризовал состояние российской полиции министр финансов граф Е. Ф. Канкрин. Он сказал, что «если в Европе революции вызываются бедностью и расстройством финансов, то в России она произойдет от плохого состояния полиции» [473]. Эта шутка была хорошо известна и имела успех в обществе.
В отчете III Отделения за 1834 г. указывалось, что «земская полиция почти повсеместно нехороша. Следствия производятся худо, и весьма многое остается необнаруженным» [474]. В следующем году появилась еще более нелицеприятная оценка: «Земская полиция во многих губерниях не только ничтожна, но вредна; она не только не прекращает злоупотреблений, но неосновательными и беззаконными действиями своими нередко порождает их. Есть случаи, что неповиновение крестьян помещикам в некоторых местах возникало единственно от бессмысленных распоряжений земской полиции, которыми крестьяне приводились в заблуждение» [475]. Почти дословно это же было воспроизведено в отчете за 1836 г. [476]. В следующем отчете негативно оценивалась полиция обеих столиц, особенно по судебной части, где дела «идут весьма худо» [477].
После значительного усиления сельской полиции, введения института становых приставов в 1837 г. III Отделение отметило заметное «улучшение в земских полициях». Вместе с тем были выявлены тревожные симптомы. «Весьма естественно, — говорилось в отчете за 1838 г., — что на первый раз при назначении вдруг всего потребного числа становых приставов неминуемо поступило много людей недостойных, но от попечительства местных начальств будет зависеть исподволь улучшить состав сих чиновников устранением неблагонадежных». Отмечалось также, что, несмотря на меры по укреплению полиции Санкт-Петербурга (организационные изменения, повышение окладов), имеются «затруднения в приискании людей для занятия должностей квартальных надзирателей и поручиков и что при всем возвышении окладов оклады сии далеко не удовлетворяют действительной потребности» [478].
Общественность не ограничивалась простой констатацией недостатков в организации и деятельности полиции. В печати появлялись публикации, авторы которых пытались разобраться в причинах столь плачевного состояния и предлагали пути выхода из создавшегося положения. Вот, к примеру, что писал журнал «Время», редактировавшийся Ф. М. Достоевским, накануне предстоявшей реформы полиции (см. врезку).
III Отделение информировало императора о результатах учреждения института становых приставов. Накопленный опыт уже в ближайшие годы дал возможность для некоторых обобщений. «…Главный недостаток происходит от дурного выбора в становые приставы чиновников, и оттого, что им не дано довольно средств исполнять свои обязанности<���…> в становые пристава определяются люди малоспособные и необразованные, [что есть] необходимое следствие недостаточного жалованья, и единственно по этой причине звания сего не принимают на себя люди хорошие и способные, так что, по общему мнению <���…> обнаруживается, что звание становых приставов есть только прибавление к тем злоупотреблениям, которые происходили от исправников, с тою только разницею, что жалобы на исправников можно было относить к вине выбиравшему их дворянству, тогда как вопли на становых приставов справедливо укоряют правительство» [479]. [480]
Обличение института становых приставов продолжилось — в еще более резких выражениях — в следующем году, после того как политический сыск убедился, что сведения на сей счет вполне основательны. Вот документальное свидетельство: «Так как внимание становых приставов обращено преимущественно на крестьян, то есть на класс самый трудолюбивый и полезный, а вместе с тем по положению своему и необразованности самый беззащитный против злоупотребления власти, то я [481]не осмелился более умалчивать, что жалобы крестьян и помещиков на притеснительные и корыстолюбивые действия становых приставов сделались почти всеобщими.
Критические заметки по поводу реформы полиции
Становой пристав будет получать 600 жалованья и 300 рублей на канцелярские издержки. Для того чтобы семейный человек мог существовать и чтобы сверх того он был избавлен от искушения пользоваться косвенными доходами, этого едва ли достаточно. При прежнем не отмененном порядке действий, при той же отчетности и ответственности всякому становому приставу приходится получать несколько тысяч бумаг, стало быть, необходимо иметь одного или двух писцов, чтобы на них отвечать. Конечно, ответы обыкновенно бывают нехитрые, несложные, но самое написание их требует много механического труда, который не может быть выполнен за 300 рублей в год, так как именно эта сумма полагается на канцелярские издержки. Первая инстанция полиции в уезде так завалена работой, что нет никаких оснований требовать отчетливого исполнения всего того, что на нее возложено. Предписывается, например, разыскать строжайшим образом, не окажется ли на жительстве во вверенном вам стане такой-то. Таких предписаний получается иногда десяток или полтора за один раз. Пакеты часто получаются в отсутствие пристава, потому что он обязан то там, то здесь, то в другом месте произвести предварительное следствие или дознание то о пожаре, то о мертвом теле. Иной раз является надобность ехать в две противоположные стороны стана — к северу верст на пятьдесят по случаю мертвого тела, да верст на сорок к югу, по случаю пожара, а иной раз три мертвые тела в разных местах. И скачет становой сначала туда, где ближе, да по пути сделает еще пять-шесть дел: там введет во владение, там произведет дознание о пропавшей лошади и т. д. Потом едет дальше и возвращается домой дней через шесть. Накопилось множество дел, и, между прочим, предписание немедленно отправиться еще верст на семьдесят, опечатать какую-нибудь раскольничью молельню или что-нибудь в такой же степени важное, не терпящее ни малейшего отлагательства. В промежутке между щами и кашей становой распечатывает десятка два пакетов о розыскании, не окажется ли во вверенном стане на жительстве таких-то и таких-то скрывающихся под разными предлогами и именами лиц. Описаны и их приметы. Оказывается, что у всех рот, нос и подбородок умеренные, волосы русые, глаза серые, лета такие-то; что же касается до особых примет, то их, конечно, не имеется. Все эти бумаги складываются в одно место, но в свое время, которое приблизительно определяется по соображению, к какому дню можно произвести розыскание, пишется стереотипная фраза, что при самом тщательном розыске такового на жительстве во вверенном мне стане не оказалось. Для облегчения канцелярской тягости следовало бы напечатать в губернских типографиях бланки с этими ответами, оставляя только пробелы для вставки нумеров и имен лиц, о которых производится переписка. Понятно, что становому приставу и некогда читать всех этих имен, о которых производится в его стане строжайший розыск; да если бы и читал, то нет ни средств, ни сил, ни времени в самом деле разыскивать, хотя по известным стереотипным приметам невозможно ничего найти. Это один из тысячи примеров тех невозможностей, которые возложены на обязанность станового пристава. Самый добросовестный из них<���…> собьется с ног в первые две недели, если вздумает на деле, а не на одной только бумаге исполнять получаемые предписания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: