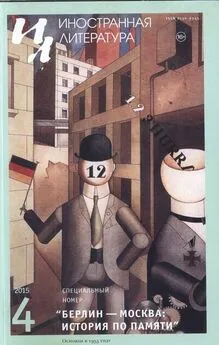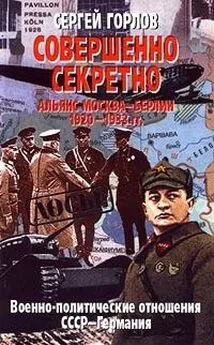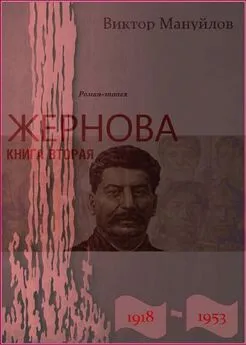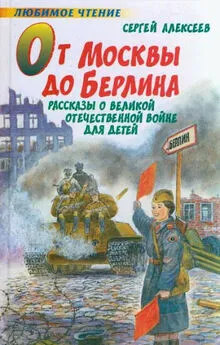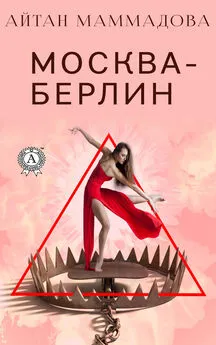Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В начале весны к ней в Европу приезжает Генрих Блюхер. Его пароход должен прибыть прямо в Афины. Ханна присоединяется к нему еще раньше, в Неаполе. Они хотят осуществить свое давно запланированное путешествие по Греции, а затем отправиться в Италию и на Сицилию. Генрих мечтал об этой поездке всю жизнь. Он в восторге от Афин. Генрих неутомим, много ходит пешком, осматривая античные памятники. «Мы живем тут „легкой жизнью богов“» — пишет Ханна Ясперсам. С не меньшим удовольствием она сообщает, что они ничего не читают, ни книг, ни газет. Но в конце мая в Риме она уже по горло сыта музеями и раскопками. Ханна «объявляет забастовку» и хочет только «делать покупки, пить кампари и вино, много и вкусно есть». Однако, к сожалению, в Риме ее снова настигает Эйхман. «Здесь поднялся большой шум, — пишет она, — но меня это не слишком волнует» [97] Из письма Ясперсам от 29 мая 1963-го.
.
После остановки в Париже, где они навещают Мэри Маккарти, Ханна и Генрих в конце июня возвращаются в Нью-Йорк. Их квартира на Риверсайд-Драйв буквально завалена почтой. Почти все письма касаются статей Ханны об Эйхмане. Только теперь она по-настоящему осознает, что затронула пласт непроработанной, вытесненной еврейской истории. Пока Ханна отсутствовала, против нее развернулась целая «кампания», которая сейчас «в полном разгаре» — так она описывает ситуацию Ясперсам.
Действительно, еврейские организации буквально объявили Ханне Арендт войну. Лига по борьбе с дискриминацией (ADL) подготовила два меморандума против ее книги об Эйхмане. Ханна предстает в них предательницей еврейского народа, поскольку она якобы утверждает, что евреи не меньше виновны в холокосте, чем их убийцы.
Главным форумом для ее критиков становится журнал «Ауфбау». И вновь, как и в истории с Литтл-Роком [98] Речь о статье Ханны Арендт «Размышления по поводу событий в Литтл-Роке» (1957), посвященной расовым волнениям в Арканзасе. Статья также стала причиной скандала.
, Ханну упрекают прежде всего за тон ее статей. Она «бессердечна», «бесчувственна», «холодна», «невероятно высокомерна», она охвачена лишь желанием быть любой ценой «оригинальной». Один из авторов даже утверждает, что Ханна Арендт «презирает людей».
Что же касается содержания, то критикуются прежде всего две вещи: сама формула «банальность зла» и трактовка роли юденратов [99] Юденрат — в годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления, создававшийся в принудительном порядке по инициативе германских оккупационных властей.
в Третьем рейхе.
Эти юденраты были признанными представительствами еврейских общин. Во время процесса в Иерусалиме Адольф Эйхман подробно описал, как тесно он с ними сотрудничал, организуя уничтожение евреев. Ханна использует его слова, чтобы показать, какую роль в холокосте сыграли главы еврейских общин. Таким образом она затрагивает, по ее словам, «самую темную главу в этой мрачной истории». Ханна Арендт приходит к выводу, что без активного сотрудничества юденратов с властями нельзя было бы осуществить уничтожение евреев в таких масштабах.
В статье «Эйхман в Иерусалиме» она пишет об этом: «В Амстердаме и в Варшаве, в Берлине и в Будапеште нацисты могли быть уверены в том, что еврейские функционеры подготовят персональные и имущественные списки, переложат расходы за депортацию в места уничтожения на тех, кого депортируют, произведут учет всех освободившихся после депортации квартир и сообщат об этом в полицию, чтобы схватить, доставить к эшелонам и довести до печального конца как можно больше евреев, передадут имущество еврейской общины для планомерной конфискации».
Критики Ханны считают эти утверждения «клеветой и бессмыслицей», издевательством над жертвами холокоста. Они убеждены, что еврейских лидеров нельзя ни в чем заподозрить, а их сотрудничество с нацистами осуществлялось единственно для того, чтобы в этом безвыходном положении спасти то, что еще можно было спасти. Ханна в своем тексте учитывает этот аргумент, но ей он вовсе не кажется убедительным. Сотрудничать с врагами, чтобы «избежать худшего» — это для нее не форма сопротивления, а уловка для успокоения собственной совести, когда люди не желают признать, что давно уже играют по правилам врага. Ханна не согласна с утверждением, будто у евреев не было никакой возможности избежать катастрофы. Впрочем, она признает, что сопротивление в индивидуальном порядке было действительно «абсолютно бессмысленным». Для отдельного человека существовала лишь возможность уйти во «внутреннюю эмиграцию», чтобы не быть соучастником преступлений. Но на общий ход вещей такие «уходы» повлиять никак не могли. Разветвленную систему террора можно было разрушить лишь в случае организованного сопротивления на широкой основе.
Чтобы пояснить, что она имеет в виду, Ханна Арендт анализирует, как осуществлялось уничтожение евреев в разных европейских странах. В таких странах, как Румыния, находилось много добровольных помощников власти, проводящих в жизнь соответствующие приказы, в Дании же, Швеции, Италии нацисты столкнулись с существенными трудностями. И прежде всего события в Дании, как пишет Ханна, демонстрируют, «какая невероятная сила может проявляться в ненасильственных акциях и в сопротивлении во много раз превосходящему и обладающему мощными средствами насилия противнику». Датское правительство упорно сопротивлялось немецким приказам и в ответ на требование носить шестиконечные звезды датский король объявил, что он сам первый наденет эту звезду.
Такое сопротивление, стиравшееся на большую часть населения, имело удивительные последствия: немецкие оккупационные власти стали гораздо более сговорчивыми, они словно растерялись, перестали выполнять указания из Берлина и даже стали рассматриваться центром как ненадежные. Их «жесткость», по словам Ханны Арендт, растаяла, как масло на солнце. Это смягчение свидетельствует об одной из черт тоталитарной системы, на которую уже указывала Ханна Арендт в своей книге, посвященной тоталитаризму: каким бы жестоким и готовым к массовым убийствам ни был режим, он отступает, когда сталкивается с решительным и широким сопротивлением. Причина — в поразительной бессодержательности такой системы.
Именно эту бессодержательность Ханна Арендт наблюдала у Эйхмана и поэтому отказывается объявлять его чудовищем или бездушным монстром. В демонизации Эйхмана она видит угрозу — ему придают значительности, которой он не заслуживает, даже если речь идет о демонической силе. В результате может создаться впечатление, что мы имеем дело с темными силами, против которых люди бессильны, которым ничего нельзя противопоставить. Для Ханны Арендт за этими «темными силами» скрывается совершенно реальная организация, с которой можно и нужно бороться. Коллективная инициатива, по ее мнению, сильнее и действеннее, чем любая система террора, которая зиждется на приказе, подчинении и безответственности. Именно поэтому она называет Эйхмана «шутом гороховым», а зло, которое он олицетворяет, — «банальным».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: