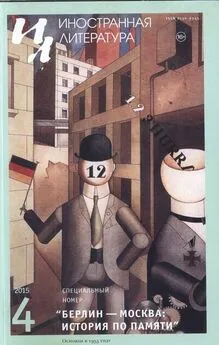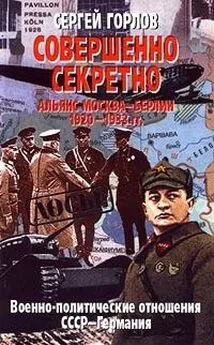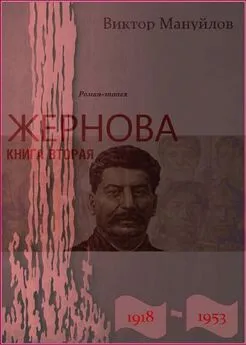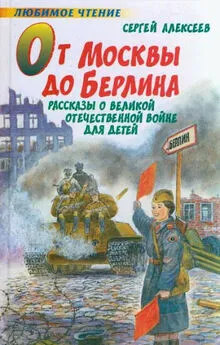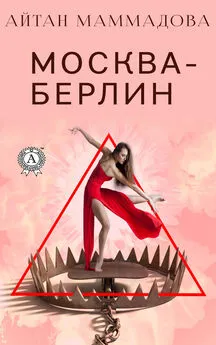Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У семьи Томаса голубой плитки не было, да и вообще жилось им несладко. За пожилой матерью нужно было ухаживать, а тетя, тоже жившая в доме, зарабатывала главным образом продажей овощей и фруктов, которые выращивала в саду, и кроликов, которых держала в сарае. У нее каждый пфенниг был на счету. И хотя каждое из своих растений она могла назвать по латыни (плоды классического образования довоенной поры), проку от этого было немного.
Каникулы я провел замечательно — совсем иначе, чем обычно. Все было просто, но очень радушно и как-то по-человечески тепло. Долгие беседы с дядей Вильгельмом, отцом Томаса: умный, тонкий, образованный человек и очень искренний. Горечь оттого, что все сложилось так, как сложилось: что он не там, где надо, по другую сторону границы, «в зоне». Где он «собственник» и «потомок юнкерского рода», который не побоялся крестить и конфирмировать всех своих детей, который о своем военном прошлом рассказывал так, словно только вчера с фронта пришел. У него было высшее сельскохозяйственное образование. В 1950 году он вернулся из плена и сразу направился «трудоустраиваться». «Барон фон Фрич? Сельское хозяйство? Ну нет, об этом забудьте». И он стал истопником при спортзале. Но даже и там ему нет-нет, да и напоминали, как бы между прочим: «Радуйся, что у тебя хоть такая работа есть, Вилли!»
Не то чтобы эта семья чувствовала себя более ущемленной, нежели другие, которые тоже не вполне подходили под социалистический ранжир. «Просто надо знать свой шесток», — любил повторять дядя Вильгельм. Само по себе благородное происхождение еще не было клеймом, больше того, в глазах людей это иной раз рождало завышенные ожидания. Томас потом, уже в школе, это заметил: одноклассники нередко именно от него надеялись услышать веское слово протеста.
Разумеется, Вильгельм Фрич мог бы достичь большего, подняться выше — но он не хотел приспосабливаться, применяться. И детей в том же духе воспитывал. Конфирмация? Обязательно. Официозный государственный обряд «посвящения в юность» — нет! Томас настаивал. Другим-то можно! Такой красивый праздник! В конце концов отец сдался. Но стать «юным пионером»? Нет. Так что, пока все его товарищи, повязав красные галстуки, отправлялись куда-нибудь на пионерскую экскурсию, Томас вынужден был торчать на уроках в параллельном классе. Впрочем, и в этом отношении отец все-таки пошел на уступку, хотя и совсем не сразу. И лишь в одном пункте — когда на Томаса начали давить, настойчиво предлагая вступить в ОГСД — «Общество германо-советской дружбы», — он встал насмерть. Хотя в обществе этом состоял каждый, это был, так сказать, обязательный минимум участия в общественной жизни. В итоге по этому поводу в дом даже пожаловали учителя. Но только однажды. Вот когда Вильгельм Фрич с радостью воспользовался возможностью порассказать о своем пребывании в советском плену. «Русские замечательные люди, знаете ли, но…»
С Томасом у нас как-то сразу возникло полное взаимопонимание, и мы много времени проводили вместе. Простейшие каникулярные радости — то в бассейн искупаться сходим, то просто за мороженым, — я, кстати, сразу же горько пожалел о том, что рассказал младшей сестренке Томаса, сколько у нас самых разных сортов этого лакомства, не только шоколадное, клубничное и сливочное. Она, конечно, тут же с восторгом и завистью рассказала об этом маме, и той пришлось приложить немало усилий, чтобы утешить десятилетнюю дочурку. И в кино мы с Томасом ходили, и осматривать старую шахту. И хотя росли мы в очень разных обстоятельствах, воспитание наше оказалось во многом схожим. Так что связывали нас не только узы семейного родства, доставшиеся нам от наших «предков» и сами по себе отнюдь не гарантирующие душевной близости. Нет, это была несомненная взаимная симпатия, ибо мы очень скоро убедились, что на многие вещи смотрим одинаково. Как и я, Томас интересовался политикой, и его откровенно разозлили пышные торжества, которыми в августе 1971 года, как раз во время моего приезда, отмечалась по всей ГДР, в том числе и у них в городке, «десятая годовщина возведения социалистического защитного вала», то есть Берлинской стены. Да-да, это был настоящий праздник, с музыкой, торжественной речью какого-то майора Национальной народной армии, но при скоплении весьма скептически настроенной публики. Мне все это показалось каким-то театром абсурда, завершившимся вечером бурной дискуссией в кругу семьи. Здесь все политические вопросы обсуждались непримиримо и открыто, говорилось о наглой пропагандистской лжи, об отвратительном снабжении, об отставании перед Западом. Хотя все это не отрицало гордости за достижения, добытые столь дорогой ценой.
Помимо всего прочего нас с Томасом связывал и общий интерес к истории вообще и к истории нашего рода в частности. Оказалось, у него есть исторические документы, которые, как он считал, гораздо надежнее хранить на Западе. Однако просто так провозить подобные вещи через границу не разрешалось. Поэтому, отправляясь обратно домой, я для надежности сунул их в газету «Нойес Дойчланд», орган СЕПГ.
Но перед тем, после десяти дней в Бад-Бланкенбурге, меня еще забрал к себе дядя Карл, брат Вильгельма, обретавшийся неподалеку от Лейпцига. Судя по всему, жилось ему получше, у него даже была своя машина, старенькая «шкода». Отец попросил его свозить меня в несколько мест, связанных с прошлым нашей семьи. Дядя Карл с удовольствием согласился. Едва выехав, мы надолго встали перед железнодорожным переездом: ждали, пока проедет бесконечный товарный состав с советскими военными автомашинами. «Русским здесь все позволено. Видел бы ты, во что они превращают наши поля и леса своими танками», — с горечью заметил дядя, и тут же поделился со мной одним из политических анекдотов, которым в ГДР не было числа. «Почему мы называем наших советских товарищей „братьями“, а не „друзьями“? Потому что друзей выбирают, а братьев нет».
Дома у дяди Карла я познакомился с другими своими двоюродными братьями — Удо и Роландом. И с ними контакт установился сразу же. Как на чем-то само собой разумеющемся мы сошлись на темах Восток-Запад, о недостатках здесь и преимуществах там. Причем вовсе не обязательно речь шла о каких-то глобальных вещах — свобода слова, права человека, свобода перемещения и т. д. Нет, о самых обыкновенных: почему они не имеют возможности покупать западные грампластинки с модной западной музыкой и почему музыка здешних групп такая скучная. И все это в том же, что и у Томаса, саркастическом тоне.
За завтраком, по торжественному случаю, приготовили настоящий, в зернах, кофе — роскошь, которую мои родные в Бад-Бланкенбурге себе позволить не могли. Потом на «шкоде» в Веймар, где долго обитали предки нашей семьи. Мы посетили последних родственников, которые еще там оставались. Веймар мне понравился — в отличие от Дрездена, куда мы тоже наведались: серый, тоскливый город безликих послевоенных новостроек. Знаменитая Фрауэнкирхе еще являла собой груду камней и щебня, замок — сплошные руины, даже опера еще не была отстроена заново. В Дрездене тоже жила наша престарелая родственница. Там же я увидел, во что превратился родной дом отца: заброшенный пустырь и развалины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: