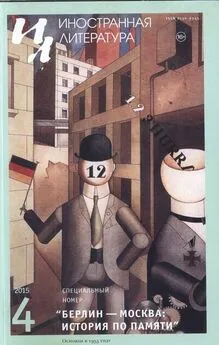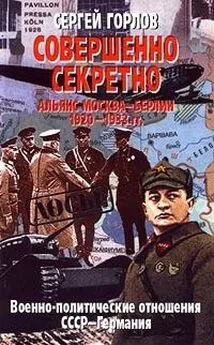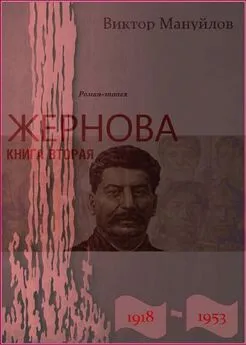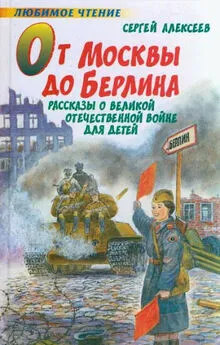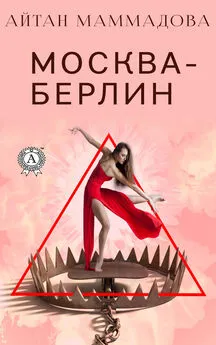Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И, наконец, как кульминация всей поездки: огромная куча битого кирпича и штукатурки. Зеерхаузен, наше фамильное имение, взорванное в 1948 году. На единственной в деревне улице немедленно появилось местное начальство — взгляд недоверчивый, глазки настороженно бегают. Некто Герберт Мёле, бургомистр и секретарь парторганизации в одном лице, «а вдобавок наверняка еще и агент „штази“», — как успел прокомментировать дядя Карл. Это еще одно неизбывное восточногерманское впечатление: «штази»; то бишь госбезопасность везде и всюду. Неизбежные расспросы: кто мы такие, зачем приехали, что тут такого интересного можно разглядывать… Зато в 1989-м тот же Герберт Мёле на голубом глазу заявил моему отцу: «Ты же знаешь: в глубине души я всегда был верен национальному немецкому духу!» Как хочешь, так и понимай… Еще до воссоединения Германии, когда отец стал наведываться в Зеерхаузен, привозя с собой то пакетик кофе, то еще что-нибудь из западного «дефицита», бургомистр с каждым разом встречал его все теплее. И почти всякий раз в качестве ответного сюрприза в руках у него объявлялась какая-нибудь вещица из фамильного поместья — то книга, то несколько салфеток, ложечка. Все это Герберт Мёле, по его словам, перед самым взрывом «на всякий случай прибрал», дабы, как он теперь давал понять, «сберечь для хозяев».
Перед отъездом мне пришлось вступить в неприятное соприкосновение с государственной властью. В плавательном бассейне я потерял свое удостоверение личности. С какой стати я вообще его с собой взял, понятия не имею. Этот внутренний документ ни для въезда в ГДР, ни для выезда обратно домой совершенно не требовался, нужен был только загранпаспорт с проштемпелеванной визой. Вероятно, проще всего было о потере удостоверения вообще не заявлять. Однако родственники сочли, что для порядка, на всякий случай, лучше заявить — вдруг его кто-нибудь найдет и сдаст куда следует. Короче, пришлось мне идти в отдел регистрации, где меня отчитали в лучших авторитарно-бюрократических традициях. Да как я мог себе такое позволить, и о чем только думал, и как теперь со мной вообще быть — словом, обычный набор подозрений, передергиваний, запугиваний, пущенный в ход с удвоенным усердием при виде строптивости этого нахального западногерманского юнца, который еще что-то смеет вякать. А я про себя решил, что ничего они со мной не сделают, не станут же здесь оставлять.
Наконец, последнее, что осталось перед отъездом — потратить обмененные деньги. На каждый день пребывания в ГДР я обязан был обменять по пять западногерманских марок, по курсу один к одному и без права обратного обмена. Только вот незадача: что купить в ГДР на эти 70 марок? Я разыскал в магазине грампластинок диск с классическими записями из истории джаза, купил кое-что из книг, сувениры на память, а остаток просто подарил родственникам. Разыгрывать из себя «богатого дядюшку» было неловко, но с грехом пополам обе стороны эту неловкость преодолели. Несколько труднее оказалось выполнить поручение родителей: обязательно сходить с дядей и тетей в валютный магазин и что-то для них приобрести. То ли избыток застенчивости, то ли просто гордость не позволяли им выбрать что-то существенное. Ассортимент в этом «интершопе» по сравнению с обычным западным супермаркетом был весьма заурядным, однако за западные марки, доллары и австрийские шиллинги здесь все же можно было купить некоторые из вожделенных западных товаров, да и кое-что из продукции ГДР, что в обычном, рядовом, магазине, так называемом государственном торговом предприятии, имелось отнюдь не всегда, или имелось не в качественном экспортном исполнении, либо не имелось вовсе. В магазинах собственной страны это правительство исхитрялось на иностранную валюту продавать собственному народу произведенные им же товары…
После отъезда мы с Томасом начали писать друг другу. Его письма отличались от писем моих одноклассников, которые я получал во время каникул. Приходили они не часто, но это были очень глубокие письма. С раздумьями о смысле жизни, о дружбе, о пережитом. А кроме того, в них все отчетливее, все резче и критичней звучали политические мотивы. Хотя и между строк, но все равно достаточно внятно. Не слишком ли далеко он заходит? Я радовался этим письмам, но ощущал при этом и легкую беспомощность. Как относиться к этому недовольству, к этой справедливой, оправданной критике, как вести себя, как отвечать с учетом цензуры и перлюстрации, когда сам ты находишься в безопасном положении? Я старался писать так, чтобы не навредить Томасу. Именно поэтому в последнюю секунду все-таки раздумал посылать ему статью из американского «Ньюсуика» с чертежами пограничной полосы ГДР, оборудованной с поистине беспримерной бесчеловечностью. Речь в статье шла об установках СМ-70.
В 1970 году руководство ГДР начало укреплять и без того смертоубийственное оснащение своей западной государственной границы новыми, еще более изощренными системами безопасности, а именно — самострельными установками СМ-70. Прежде так называемая приграничная полоса состояла из пятикилометровой запретной зоны, внутри которой вдоль самой границы тянулась пятисотметровая контрольная полоса, очищенная от растительности, с дорожками для патрулей, ограждениями из колючей проволоки и так называемыми МЗП (малозаметными препятствиями) в виде натянутой над самой землей проволокой, в просторечии «спотыкач», вышками для часовых, прожекторами и полосой минного поля, прозванного что на Востоке, что на Западе полосой смерти. Теперь все это великолепие было дополнено еще и СМ-70, установками, которые всякого «нарушителя границы», попадавшего в зону их действия, обстреливали веерной очередью стальных осколков. Участия человека теперь уже не требовалось. В протоколе испытаний пограничными частями нового оборудования в 1971 году с удовлетворением констатируется:
Характер поражений, производимых осколками на оленей, кабанов и пернатую дичь, позволяет с уверенностью заключить, что нарушителю границы, попавшему в зону действия СМ-70, будет нанесено либо смертельное, либо тяжелое ранение, исключающее возможность дальнейшего преодоления контрольно-пограничной полосы.
В 1976 году Михаэлю Гартеншлегеру, оппозиционеру и диссиденту, почти десять лет проведшему в заключении, прежде чем он оказался в ФРГ, удалось демонтировать две таких самострельных установки, подобравшись к ним с западной стороны, и продемонстрировать их международной прессе. До того руководство ГДР само существование этих установок просто-напросто отрицало. За это Гартеншлегер был объявлен в ГДР в розыск, а впоследствии при попытке демонтажа очередной установки застрелен специальным подразделением министерства госбезопасности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: