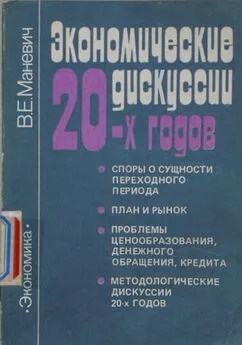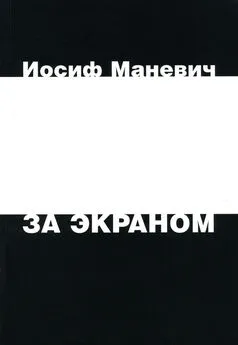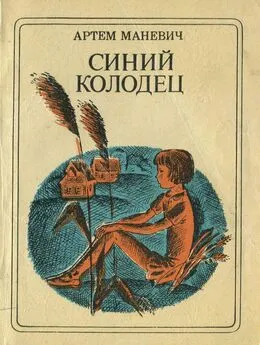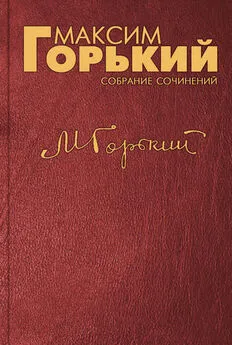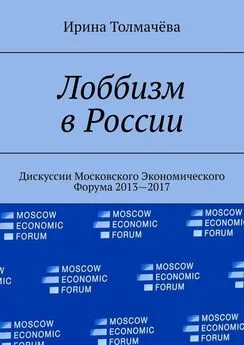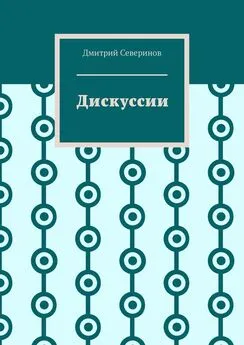Виталий Маневич - Экономические дискуссии 20-х
- Название:Экономические дискуссии 20-х
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Экономика
- Год:1989
- Город:М.
- ISBN:5-282-00238-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Маневич - Экономические дискуссии 20-х краткое содержание
В книге анализируется содержание полемики, происходившей в период становления советской экономической науки: споры о сущности переходного периода; о путях развития крестьянского хозяйства; о плане и рынке, методах планирования и регулирования рыночной конъюнктуры; о ценообразовании и кредиту; об источниках и темпах роста экономики. Значительное место отводится дискуссиям по проблемам методологии политической экономии, трактовкам фундаментальных категорий экономической теории.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей экономической мысли.
Ответственный редактор — академик Л. И. Абалкин
Экономические дискуссии 20-х - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, у Рубина общественные формы вещей отрываются от производственных отношений и даже предшествуют им: люди вступают в данные производственные отношения потому, что являются владельцами вещей с определенными общественными формами.
Далее И. Рубин производил еще одно усложнение своей концепции: в тройственную формулу "вещь - социальная форма вещи — производственное отношение" включался четвертый член — владение вещами. Люди, отмечал он, вступают в определенные производственные отношения потому, что они владельцы вещей с определенными общественными свойствами. Следовательно, производственные отношения отличаются сначала от общественных форм вещей, а затем и от "владения" вещами.
Вещь становится капиталом лишь при том условии, утверждал И. Рубин, если она фигурирует в производственном отношении между капиталистом и рабочим. Но, с другой стороны, эти лица вступают между собой в данное производственное отношение только при условии, если у первого из них имеется капитал. Согласно марксистской трактовке производственных отношений сама категория "капитал" означает, что люди уже вступили друг с другом в данное производственное отношение. Об этом же говорит само деление общества на капиталистов и рабочих. Капитал не может служит условием для производственных отношений, ибо он сам есть производственное отношение. Но наличие капитала служит условием для конкретного соглашения о найме между данным рабочим и данным капиталистом. У И. Рубина же это конкретное соглашение выступает как создание самих капиталистических производственных отношений.
Что же в конечном счете является первопричиной: единичные "производственные отношения" или "социальные формы вещей", которым И. Рубин придает большую устойчивость и постоянство? С одной стороны, производственные отношения обусловлены социальными формами вещей, с другой — производственные отношения сами придают вещам эту социальную форму. Отмеченное противоречие, по мнению И. Рубина, может быть разрешено только в диалектическом процессе общественного производства, в котором каждое звено является следствием предыдущего и причиной последующего. Социальная же форма вещей является результатом предыдущего процесса производства и предпосылкой дальнейшего.
Таким образом, И. Рубин заменяет причинно-следственную связь бесконечным рядом взаимных связей. Социальные формы вещей, которые обусловливают производственные отношения в рамках его концепции, сами обусловлены производственными отношениями, придающими вещам определенную социальную форму.
И. Рубин объясняет, как произошло это придание вещам социальной формы. Поскольку продукты постоянно обменивались и люди знали, что любой продукт можно обменять, они и смотрели на свой продукт как на объект обмена еще до акта купли-продажи. Таким образом, за вещами закрепилась социальная функция или социальная форма товара. То же самое относится к рабочей силе, капиталу и т. д. Но коль скоро определенная социальная функция (или форма) укрепилась за вещами, вещи посредством этой своей формы начинают "мотивировать" поведение людей, дабы люди использовали их в соответствии со своими общественными возможностями: покупали, продавали, сдавали в аренду и т. д.
По мере развития производительных сил, считал И. Рубин, конкретные отношения между людьми учащаются, многократно повторяются, становятся обычными и распространяются в данной социальной среде. Такое "уплотнение" производственных отношений людей приводит к "уплотнению" соответствующей социальной формы вещей. Данная социальная форма "закрепляется" за вещью, сохраняясь за ней и в моменты перерывов конкретных производственных отношений людей. Только с этого момента можно датировать появление данной вещной категории как обособленной от породившего ее производственного отношения людей и в свою очередь воздействующей на него; то же самое с деньгами, капиталом и другими социальными формами вещей, писал И. Рубин.
Таким образом, благодаря тому, что люди постоянно вступали в отношения обмена, за вещами закрепляется способность быть объектами обмена. Социальная форма вещей, по И. Рубину, в конечном счете определяется обменом, а не отношениями производства. Товар обладает стоимостью не потому, что он произведен исторически определенным трудом, а потому, что в результате многократно повторяющихся актов обмена за продуктами "закрепилась" способность приравниваться друг к другу. Социальная форма вещей у И. Рубина - это что-то подобное общественной привычке, которая существует в моменты перерывов конкретных производственных отношений.
Если производственные отношения у И. Рубина - это волевое, идеальное отношение между конкретными людьми, то социальная форма вещей - идеальное представление людей о вещах как возможных объектах производственных отношений. Это представление людей, постоянно присутствуя перед их мысленным взором (даже в моменты перерывов конкретных производственных отношений), мотивирует общественное поведение людей. Мотивировку эту И. Рубин и называет определяющим влиянием социальной формы вещей на производственные отношения людей.
Как видим, образовался замкнутый круг построений: за отношениями вещей, которые трактуются как укрепившаяся привычка людей, надо увидеть отношения двух конкретных индивидов. Это, по И. Рубину, и есть теория товарного фетишизма.
Совершенно иначе поставлена и решена проблема товарного фетишизма у К. Маркса. Людям представляется, что свойство обладать общественной жизнью присуще вещам от природы; это представление есть неверное порождение человеческого мозга. Но, с другой стороны, стоимость есть действительно вещная форма производственных отношений; производственные отношения в товарном обществе действительно овеществлены. Однако овеществление связано не с физическими, чувственными свойствами вещей, а с их "сверхчувственными" общественными свойствами, которые они приобретают вследствие специфически общественного характера труда в товарном обществе.
По Марксу, вещный характер общественных отношений — специфика товарного общества; отделять производственные отношения от их вещного выражения - значит отказаться от рассмотрения исторически определенного способа производства. Такого "отделения" К. Маркс никогда не делал. К. Маркс, вскрывая товарный фетишизм, отделял физические свойства вещей от их общественной формы. И. Рубин же, "вскрывая" товарный фетишизм, отделял общественные формы вещей от производственных отношений.
Товар, деньги и т. д. — все это для И. Рубина "социальные формы", закрепившиеся за вещами в силу отношений между людьми. Однако соотношение между различными социальными формами и отношениями людей согласно его концепции различно. Социальная форма "товар" непосредственно примыкает к производственным отношениям людей, а другие "социальные формы" представляют собой усложнение данной "социальной формы". Диалектику категорий в "Капитале" К. Маркса И. Рубин сводил именно к такому, оторванному от движения производственных отношений, усложнению форм. Промежуточным звеном между производственными отношениями людей и категорией денег, утверждал И. Рубин, является категория товара или стоимости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: