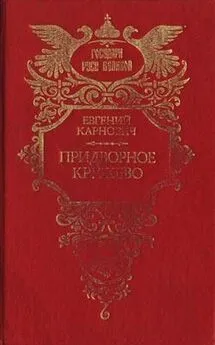Норберт Элиас - Придворное общество
- Название:Придворное общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Языки славянской культуры»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-94457-034-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Норберт Элиас - Придворное общество краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историко-социологическими сюжетами.
На переплете: иллюстрации из книги А. Дюма «Людовик XIV и его век».
Придворное общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта любовная привязанность главных героев, как она описана в «Астрее», есть некий идеал. Она представляет собой запутанное смешение импульсов, исходящих от влечения и от совести. Для этого эмоционального любовного комплекса показательно не только то, что более прочная цивилизационная броня на протяжении длительных периодов времени держит здесь под контролем спонтанные, животные формы проявления человеческих страстей. На этой ступени цивилизационного процесса появляются в то же время в качестве второстепенного приобретения известного рода удовольствие от откладывания любовных утех на будущее время, меланхоличная радость от своих собственных любовных страданий, наслаждение от крайнего напряжения неутоленного влечения. Они придают этому типу любовной привязанности романтический характер.
Это продление любовной игры и вторичное удовольствие от напряжения неутоленного влечения самым тесным образом связаны с определенным любовным этосом. Речь идет об этосе строгого подчинения влюбленных социально-оформленным нормам, которые диктует им их собственная совесть. К числу этих норм относятся, прежде всего, нерушимая верность влюбленных друг другу, и в особенности нерушимая верность любящего мужчины любимой женщине. Недоразумения и искушения могут быть весьма велики. Однако в соответствии с тем идеальным образом любовного отношения, который рисует перед нами д’Юрфе в своей «Астрее», любящий мужчина сохраняет в своей преданности абсолютное постоянство, что составляет его долг и честь. Именно этот любовный этос как этос пастухов и пастушек, а значит, среднего слоя дворянства д’Юрфе противопоставляет более свободным любовным нравам господствующей придворной аристократии. Напомним, что, хотя сам этот средний слой дворянства уже находится на пути к закреплению при дворе и в значительной мере подвергся влиянию цивилизации, он еще сопротивляется вышеупомянутым закреплению и растущему цивилизационному принуждению.
Небольшая сцена может наглядно проиллюстрировать эту ситуацию [218]:
Галатея — в романе нимфа, следовательно, замаскированный портрет знатной придворной дамы, вероятно Маргариты Валуа, — упрекает Селадона, простого пастуха, а значит, представителя более низкого по рангу дворянства, за неблагодарность и холодность в отношении к ней. Селадон отвечает: то, что она называет неблагодарностью, является просто выражением его долга. «„Тем самым Вы говорите только, — отвечает знатная дама, — что любовь Ваша обращена на кого-то другого и что Ваша вера соответственно подчиняет Вас известному обязательству. Но, продолжает она, — закон природы предписывает нам нечто совершенно иное. Он велит иметь в виду свое собственное благо, а что может быть лучше для Вашего благополучия, чем моя дружба? Кто другой в этих краях так много может сделать для Вас, как я? Ведь это просто глупые шутки, Селадон, принимать всерьез всю эту чепуху про верность и постоянство. Это слова, придуманные старыми женщинами или женщинами, теряющими свою красоту, чтобы этими узами приковать к себе те души, которые лица их давно уже отпустили бы на волю. Говорят, все добродетели лежат в оковах. Постоянства не может быть без житейской мудрости. Но мудро ли было бы пренебречь совершенно определенным благом, чтобы только не прослыть непостоянным?“
„Мадам, — отвечает Селадон, — житейская мудрость не может учить нас искать своей выгоды предосудительными средствами. Природа, в ее законах, не может повелеть нам строить здание, не утвердив под ним прочный фундамент. Есть ли что-нибудь более постыдное, чем не держать своего обещания? Есть ли что-нибудь легкомысленнее той души, которая порхает с цветка на цветок, подобно пчеле, увлекаясь новой сладостью? Мадам, если нет на свете верности, то на каком же фундаменте смогу я воздвигнуть Вашу дружбу? Ибо если Вы сами следуете тому закону, о котором Вы говорили, то долго ли станет улыбаться мне это счастье?“»
Мы видим, что пастух, точно так же как и знатная придворная дама, знает толк в искусстве придворного словопрения. Последнее отчасти занимает место физического поединка рыцарей в ходе растущего стягивания к королевскому двору и цивилизирования дворянства. Мы видим также в этой маленькой сцене протест прикрепляемого к королевскому двору дворянства против великосветски придворного этоса. Представитель среднего слоя дворянства защищает любовный этос, который пред восхищает широко распространившийся идеал среднебуржуазных слоев. Знатная дама защищает великосветски-придворный этос житейской мудрости, как его понимает д’Юрфе. Очень похоже, что все то, что она говорит, весьма близко к действительным стандартам мышления и поведения в господствующем высшем слое придворной знати. Небольшой рассказ, записанный самой Маргаритой Валуа [219], показывает совершенно аналогичную историю отношений между знатной дамой и простым рыцарем. Правда, в этом случае, история окончилась счастливо — в том смысле, как это понимает дама. Небезынтересно видеть, что в рамках этоса высшего придворного слоя уже предвосхищается то истолкование понятия природы, которое впоследствии будет воспринято и систематически развито, прежде всего, в буржуазной философии общества и хозяйства. Закон природы будет толковаться как норма, повелевающая индивиду действовать в интересах своего собственного блага, своей собственной выгоды. Пастух Селадон защищает идеал, направленный против господствующего высшего придворного слоя. Подобно пасторальной романтике, этот идеал еще долго будет жить как альтернативный идеал людей, страдающих от принуждения власти и цивилизации при дворе.
Аналогично обстоит дело и с тем, что д’Юрфе выдвигает как пастушеский идеал природы. Как и в случае с любовью, тоска из-за нарастающего удаления — в данном случае от простой сельской жизни — приукрашивает в глазах человека удаляющийся от него предмет.
Селадон объявляет нимфе Сильвии, что никто не знает, кто такой пастух Сильвандр, то есть его семья и происхождение неизвестны. Он явился у нас, рассказывает Селадон, уже много лет назад; а поскольку он очень хорошо разбирается в целебных кореньях и в уходе за животными, что составляют наши стада, каждый рад был помочь ему.
«„Сегодня, — говорит Селадон, — он живет вполне приятно и может считать себя богачом. Ибо, о нимфа, чтобы мы могли считать себя богачами, нам нужно не так много. Сама природа довольствуется немногим, а мы, стараясь всего лишь жить в согласии с природой, очень скоро обретаем богатство и довольство жизнью…“
„Вы, — отвечает ему нимфа, — счастливее нас“» [220].
И здесь мы вновь видим идеологическую оболочку романа. Искусственной жизни высшего придворного слоя противопоставлена простая и естественная жизнь пастухов. Однако пастушеская жизнь здесь уже является символом тоски по той жизни, которая неосуществима. Это тоска «внутренне» расколотых людей. Они, быть может, еще помнят сельскую жизнь времен их собственной юности. Сам д’Юрфе совершенно сознательно переносит действие романа в ту область Франции, где он сам провел свои молодые годы. Но в то же время эти люди уже очень глубоко вовлечены в процесс аристократизации, и придворно-цивилизационное влияние чрезвычайно сильно изменило их. Они уже слишком отчуждены от действительной деревенской жизни, чтобы удовольствоваться простотой среди крестьян и пастухов. Д’Юрфе осознает весьма ясно, что возвращение в край его юности, который он населяет теперь переодетыми в пастухов придворными аристократами, есть лишь мечта, игра. Только тоска по этому краю — совершенно подлинная. Однако способность самодистанцирования и рефлексии уже достигла здесь очень высокой ступени развития. Уже не получается скрыть от самих себя, что пастухи и пастушки, хотя и символизируют собою вполне подлинную тоску, суть при этом сами лишь пастухи в маскарадном костюме, символы некоторой утопии, а вовсе не настоящие пастухи. Выше уже говорилось об особенностях этой ступени. Хотя люди уже в достаточной мере способны дистанцироваться от самих себя, чтобы задаться вопросом: «Что есть действительность, что есть иллюзия?» у них еще нет настоящего ответа на этот вопрос. Довольно часто они просто играют, допуская возможность того, что представляющееся им иллюзией — действительно, а представляющееся им действительным есть иллюзия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: