Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
- Название:Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1333-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 краткое содержание
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но как ни старается парторг, ему, бывшему трубачу (sic!), не удается убедить коллег в своей правоте. Неудивительно, что идея партийного руководства принимает у него причудливые формы. Так, войдя в подъезд дома композиторов, он вдруг пришел к неожиданной мысли: «Ипатова удивило, как много музыки доносится со всех этажей. Он с раздражением подумал, что и тут мало порядка. Ведь сколько же сочиняют! Разве нельзя сделать так, чтоб музыка живущих здесь композиторов потекла, как течет вода по полю, направляемая заботливыми руками?» (621). Как заметил один из живущих в этом доме, композитор Волошин, о своем соседе по подъезду, «надо было заставить Гиляревского работать по-другому. Именно заставить».
Но, конечно, главная забота партийных руководителей – это слушатель, о котором забыли композиторы-формалисты. Доступность – главное, что требует партия от музыки. Так, если автор ведет своего героя на завод, то не только для того, чтобы тот встретился с рабочими, которые интересуются, как «из труда и из жизни рождается музыка» (242), но чтобы директор поправил их, а заодно и объяснил Снегину, что музыка не может быть «натуралистичной», что композитор не может быть «рабом окружающих его ритмов» (243). Этим он как бы предваряет сказанное после провала оперы Снегина «председательствующим» (то есть Ждановым) на совещании в ЦК, – что в этом случае музыка будет «напоминать шум на строительной площадке в момент, когда там работают экскаваторы, камнедробилки и бетономешалки». А уж витийствуют в романе просто по стенограмме совещания. В особенности это относится к тестю Снегина: «Думаешь, я один такой отсталый? Спроси кого хочешь: слушателю эта какофония, путаница надоела, осточертела. Собери любую аудиторию и поставь лицом к лицу с нею композитора из ультрасовременных – что ему скажут?» (455).
Автор даже как будто берется поправить тех из выступавших на совещании, кто не получил «должного отпора» пять лет назад. Приблизительно то же, что говорил на совещании в ЦК дирижер Борис Хайкин о том, что зрителя не интересуют высокие теории, «он платит полным рублем в новых деньгах и требует полноценной продукции», в романе говорит дирижер Кораблев: «В понятиях „новаторство“, „современность“ я, извините, не разбираюсь, а вот в том, хороша музыка или нет, кое-что смыслю. Каждая постановка будет стоить нам сотни тысяч рублей. Зритель будет платить свои деньги. За что?» В отличие от совещания, где на высказывание Хайкина никто не откликнулся, в романе Кораблеву, который не понимает смысла борьбы (по сути, идеологической, а не профессиональной), дается «должный отпор»: «Наше искусство не кассовым интересам подчиняется – к чему вносить этот душок? У нас решают соображения другого порядка» (413).
Именно потому, что «у нас решают соображения другого порядка», роман с неотвратимостью движется к провалу оперы Снегина: «Спектакль, рассчитанный на то, чтобы показать в опере образы советских людей, до советских людей не дошел – ложные, искаженные образы вызвали разочарование, раздражение и горечь» (648) [906]. Провал же, в свою очередь, ведет к совещанию в ЦК, которое представлено как некий акт искупления, очищения и приобщения к высшему. Все в людях в этом святилище меняется – «все были полны особого, нового чувства: час тому назад они слушали речь, которая вошла в историю духовной культуры народа» (693; имеется в виду, конечно, речь Жданова). Снегин потрясен значимостью события:
Неожиданно он поймал себя на том, что жадно смотрит на сидящих за столом членов ЦК ‹…› Сознание, что перед ним ближайшие помощники Сталина, что именно они занимаются сейчас вопросами музыки, завладело им, заставило забыть все другое. Быть может, с их участием решался вчера вопрос о новом грандиозном строительстве, о новых энергетических ресурсах, о проблемах естествознания. Сейчас они пригласили в ЦК музыкантов, а вечером, быть может, встретятся с философами или лесоводами. Чем больше Снегин об этом думал, тем чувство удивления перед масштабами их энергии и безграничностью их труда возрастало ‹…› Мера, которою меряется ценность творчества, тут иная, совсем не та, какой подчас меряет себя сам художник. Снегин понял с остротой, какой до сих пор не ощущал, какая пропасть лежит между творчеством, оставляющим слушателей равнодушными и холодными, и тем, какое все без остатка идет на службу народу (700).
Так что теперь, в ходе совещания, даже «попытки защитить его творчество только раздражали, казались неуместными и нечестными» (701–702).
Снегин не был бы художником, если бы не ощутил сладость пытки, красоту речи председателя-палача: «Над всем, что он слышал, что врезалось в память, возвышалась речь председателя совещания. Сила ее обобщений была неотразима, и, подчинившись ей, Снегин понял, что вовсе не о нем одном идет сейчас речь: целая группа композиторов действовала сплоченно; уводя искусство в сторону от большой дороги, они причиняли ему огромный вред. Чуткий до формы, он охватил речь всю, целиком, потому что по форме она была совершенна» (702). Снегин буквально читал готовый текст, на который вскоре будет написано его новое «народное» произведение. Потому, видимо, «он ходил и ходил, ощущая небывалую душевную наполненность» (703).
После совещания, как после очистительной бури, пронесшейся над миром, возник наконец высокий и ясный небосвод – «идеи народности и реализма окончательно победили, формализм разгромлен, и ничто больше не мешает развитию искусства, кончилась мешанина, путаница и неразбериха» (694–695). Но не только музыканты – сами зрители повзрослели на глазах: «После Постановления ЦК о музыке зритель – все это чувствовали – стал с большей ответственностью и с большим чувством ожидания относиться к искусству. Вся атмосфера художественной жизни была как бы озонирована Постановлением» (722).
Гиляревский на совещании отмалчивался, зато Снегин выступил «с короткой, но честной и искренней речью, в которой он признал порочными и свой предыдущий путь, и оперу, которую он создал» (696). Здесь опять образ Снегина начинает двоиться: то Дмитрий Шостакович превращается в Вано Мурадели, то он соглашается с Марьяном Ковалем… Как бы то ни было, после совещания герой является на завод, к тем же рабочим, которые смотрели на него с восхищением до провала в Большом театре, и им он торжественно обещает: «Если бы мне удалось сочинить квартет или симфонию, это бы еще не явилось ответом. Ответом может быть опера, которую я, мне кажется, напишу» (736). Здесь автор отстраняется от своего героя и смотрит с ним вместе в зал: «…хорошие, милые лица, доверчивые глаза ‹…› В эту минуту он вдруг почувствовал, что в самом деле мог бы сочинить что-то хорошее, что-то очень хорошее, идущее от самого сердца» (736). Речь идет об опере, по-настоящему народной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
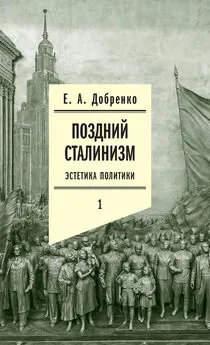
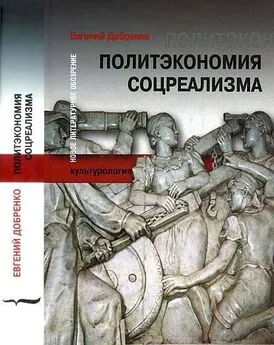

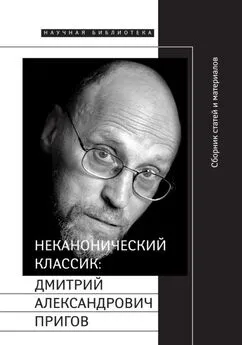


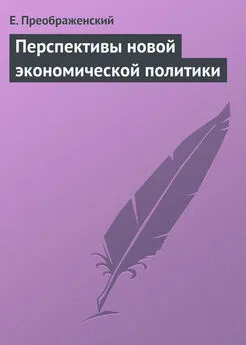
![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)


