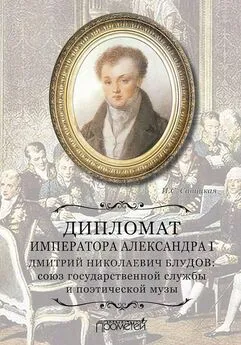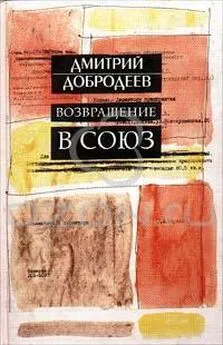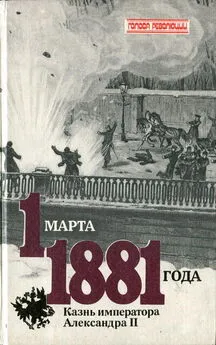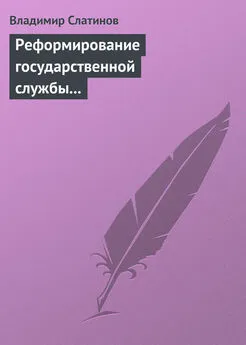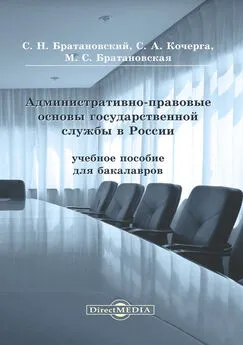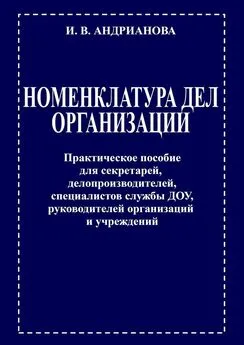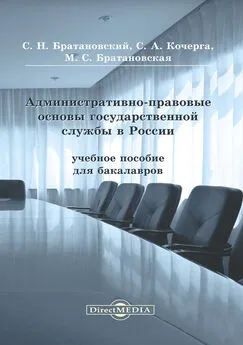Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Название:Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прометей
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907166-13-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы краткое содержание
Книга основана на источниках, в том числе и неопубликованных. Она представляет интерес для всех, интересующихся отечественной историей, русской дипломатией и литературой.
Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Характер интереса к творчеству Гердера (1744–1803), который проявлял его ровесник Державин, будучи всего на год старше немецкого автора, а также представители другой литературной эпохи — арзамасцы, вносит новые оттенки в характеристику положения Державина в русском литературном процессе.
На заседаниях Арзамаса 18 ноября и 16 декабря 1815 г. Д. В. Дашков читал свои переводы «Парамифий [426] В переводе с греческого парамифия — «увещание». В славянской традиции «Отрада» или «Утешение».
» И. Г. Гердера, а их автор получил почетное прозвище «германского арзамассца» [427] Арзамас. Сб. Кн. 1. Мемуарные свидетельства. Накануне «Арзамаса». Арзамаские документы. М., 1994. С. 299–300, 317.
. Позже Дашков, занимаясь переводами из греческой антологии, позаимствовал название своего сборника у Гердера — «Цветы, выбранные из греческой антологии». По замечанию П. Древса, две эпиграммы Дашкова прямо указывают на гердеровские — «Аякс во гробу» («Ajax im Grabe») и «Союз дружбы» («Bund der Freundschaft»). Почти одновременно с Дашковым к греческой антологии обратились арзамасцы С. С. Уваров и К. Н. Батюшков. Известно глубокое и продолжительное увлечение Жуковского творчеством Гердера. В 1817 г. Жуковский писал Дашкову о намерении включить «Парамифии» в сборник переводов из «образцовых немецких писателей», но этот проект не был реализован [428] Койтен А. Указ. соч.
.
Среди литераторов, обращавшихся после Державина к «Парамифиям», был Владимир Карлович Бриммер, пользовавшийся в 1814–1816 гг. поддержкой Державина и переложивший на немецкий язык державинский «Глас Санкт-Петербургского общества…». В 1818 г. в первом томе «Соревнователя просвещения» был опубликован его перевод гердеровской парамифии «Выбор Флоры» («Die Wahl der Flora») [429] Там же.
. Привлекательным и в глазах Державина, и в глазах арзамасцев выглядел подход Гесснера — все рассматривать с точки зрения «духа своего времени» [430] Каждый народ, по Гердеру, должен иметь литературу, проникнутую национальным духом. Героем подлинного литературного произведения, по мысли Гердера, должен быть «естественный», близкий к природе человек больших страстей, талантливый от рождения. Он восхищался народной поэзией, Гомером, Библией, творчеством Шекспира, в которых видел подлинную поэзию. Человечество, по его мнению, в своем развитии переживает периоды молодости и дряхлости. Молодость прошла с гибелью античного мира. С окончанием века Просвещения оказался завершенным жизненный круг. Поэтому Гердер размышлял о необходимости начала нового омоложенного круга культурного развития Европы, который возможен лишь при условии творчества, подчиненного вольному вдохновению, и под знаком национальной самобытности. Гердер рекомендовал обратиться к более ранним (молодым) периодам истории, и таким образом приобщиться к духу своей нации в его наиболее здоровом и сильном выражении и почерпнуть из этого источника силы, необходимые для обновления искусства и жизни. Гердер совмещал с теорией циклического развития мировой культуры теорию прогрессивного развития, сходясь в последнем с просветителями, полагавшими, что «золотой век» следует искать не в прошлом, но в будущем. Для самого Гердера он был и в прошлом и в будущем. Ценя индивидуальную самобытность, он видел в человеке частицу социального целого (нации), а следовательно национальную самобытность.
.
Завершая сопоставление общего в литературных вкусах Державина и Блудова, следует отметить, что оба — и дядя, и племянник были способными организаторами условий для проведения литературного досуга поэтами и писателями, составившими золотой фонд отечественной литературы.
Блудову, благодаря Державину, была известна с юности форма небольшого дружеского литературного, хотя и не имевшего названия, общества, поскольку оно являлось средством общения людей, отличавшихся «просвещением, талантами, вкусом, любовью к художествам, к музыке и вообще изящному» [431] Если в царствование Александра I Блудов стал одним из инициаторов создания литературного общества «Арзамас», то при Николае I у него был известный среди элиты салон, который наряду с салоном А. О. Смирновой имел определенный «вес» в великосветском обществе.
.
Впоследствии Блудов развивает и совершенствует эту форму, создает вместе с друзьями дружеское литературное общество «Арзамас». Блудову пригодился еще один известный прием: характеристика реальных лиц под вымышленным именем. Он использовался в русской литературе XVIII в., в том числе и Державиным. Поэт называл вымышленным именем императрицу — «Фелицей», а также близких ему людей: «Пленирой» — свою первую жену Е. Я. Бастидонову [432] Отец Е. Я. Бастидоновой — португалец Бастидон был камердинером императора Петра III, а мать — кормилица императора Павла I. Родственником Державина по первой жене был писатель и журналист Яков Андреевич Галинковский (1777–1816).
, а позднее — «Миленой» — свою вторую жену Д. А. Дьякову. Время внесло изменения в стилистику общения. Из моды вышли оды, однако, сам прием, утратив тяжеловесность и патетичность и обретя легкость, изящность и нередко шуточный характер пригодился и применялся в дружеском кругу «Арзамаса», где каждый из членов имел собственное прозвище.
Среди отличий Державина и Блудова следует назвать разный характер их литературной одаренности.
У них были разные сферы приложения способностей и талантов. Державин был поэт. Блудов обладал способностями литературного критика. Мнение Блудова как литературного критика высоко ценилось современниками, в частности В. А. Жуковским. В литературе подчеркивается, что Блудов был «литературно образованным» приятелем Жуковского. Он был ценим поэтом «как критик, вкусу которого Жуковский доверял больше, чем своему» [433] Путеводитель по Пушкину. СПб, 1997. С. 65–66.
. Восторженно характеризуя Жуковского в письме к П. А. Вяземскому в январе 1813 г., К. Н. Батюшков упомянул и Блудова, как человека, способного оценить поэзию Жуковского: «Редкая душа! Редкое дарование! Душа и дарование, которому цену, кроме тебя, меня и Блудова, вряд ли кто знает. Мы должны гордиться Жуковским: он наш, мы его понимаем» [434] Кошелев В. А. Жуковский и Батюшков (к проблеме формирования литературных представлений) / / Жуковский и русская культура. Сб. научных трудов. Л., 1987. С. 227.
.
Ал. И. Тургенев характеризовал Блудова как прирожденного литературного критика, обладающего «мастерским пером» [435] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. I. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым 1812–1819. СПб, 1899. С. 58. Письма А. Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 107.
. Исключение составлял А. С. Пушкин, не питавший к Блудову особой симпатии и скептически относившийся к его мнению. Пушкин не советовал Жуковскому следовать советам Блудова при издании своих произведений. «Зачем слушаешься ты маркиза Блудова? Пора бы тебе удостовериться в односторонности его вкуса. К тому же не вижу в нем и бескорыстной любви к твоей славе. Выбрасывая, уничтожая самовластно, он не исключил из собрания послания к нему — произведения, конечно слабого. Нет, Жуковский Веселого пути /Я Блудову желаю /Кодревнему Дунаю /И (—)», — написал Пушкин в письме
Интервал:
Закладка: