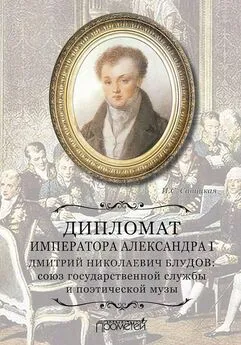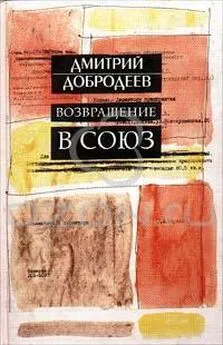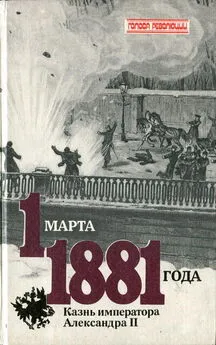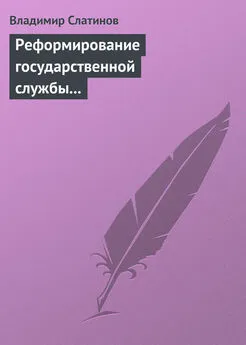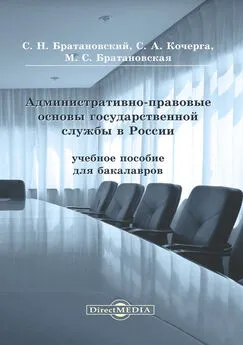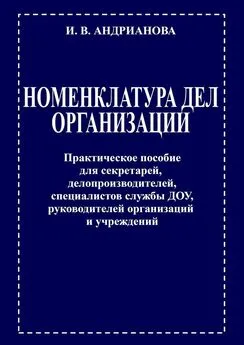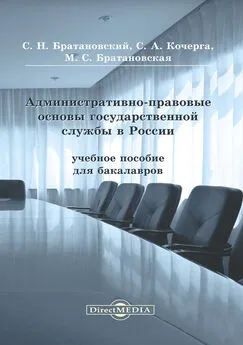Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Название:Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прометей
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907166-13-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савицкая - Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы краткое содержание
Книга основана на источниках, в том числе и неопубликованных. Она представляет интерес для всех, интересующихся отечественной историей, русской дипломатией и литературой.
Дипломат императора Александра I Дмитрий Николаевич Блудов. Союз государственной службы и поэтической музы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К 1806 г. уже проявилось разное понимание драматургии и драматической поэзии двумя родственниками Блудова — Державиным и Озеровым. По возрасту и отношению к искусству Блудову был ближе Озеров.
Страсть к театру, господствовавшая в Блудове, по словам Е. П. Ковалевского, с молодости, сближала его с Озеровым. В письме П. А. Вяземскому от 20 февраля 1817 г. Блудов вспоминал: «…пока Озеров скучал в деревне и думал об Эдипе, я приехал в Петербург (1802 г. — И. С.) и вызвал его своими письмами» [405] Арзамас. Сб. Кн. 2. М., 1994. С. 413.
.
Блудов «мог прочесть наизусть целые тирады, почти, почти целые трагедии Озерова и Расина и в этом случае память не изменяла ему до глубокой старости» [406] Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. С. 15.
.
Эволюция литературного отношения Блудова к Державину показывает, с одной стороны, преемственность, а с другой стороны, выявляет новые шаги в понимании задач литературы, характерном для молодого поколения писательского окружения Блудова.
Многое по историческим меркам быстро менялось, прежде всего, статус «сочинительства» и психология отношения к процессу общения знатного и чиновного дворянства с поэтами. В конце XVIII в. «сочинительство», особенно, в тех случаях, когда поэт, соединяя службу и литературную деятельность, не просто писал, но печатал свои стихи и вращался в обществе подобных себе, «в глазах вельможи», как всякий чиновник, «дерзавший пускаться в литературу», презрительно назывался «живописцем» и считался «никуда не годным» для службы [407] Грот Я. К. Жизнь Державина. М., 1997. С. 170.
.
В начале XIX в. положение стало иным. Суть изменений А. С. Пушкин определил следующим образом: «У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестьсотлетний дворянин — дьявольская разница!» [408] Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. М., 1962. С. 160.
.
Отметим, не последнюю роль в изменении психологического климата восприятия и отношения к литературе сыграли поэты и литераторы, одновременно являвшиеся представителями бюрократической элиты. Среди них: Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев и А. С. Шишков [409] Министрами юстиции были Г. Р. Державин и И. И. Дмитриев. Государственным секретарем, членом Государственного Совета, президентом Российской Академии наук, министром народного просвещения был А. С. Шишков.
.
Для Блудова и его молодых современников были очевидны перемены, происшедшие благодаря тем же самым «никуда не годным живописцам». Для них стали особенно привлекательны и общественно значимы организационные формы литературного общения, существовавшие у старшего поколения.
А старшее поколение, в свою очередь, сознавало пределы полученного им в юности образования. Так, Державин написал об этом в одном незаконченном сочинении, которое он начал в 1811 г. для чтения в «Беседе любителей российского слова»: «Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах империи, когда и куда не проникало еще в полной мере просвещение наук не только на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас учили тогда: вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти никаких не читали, откуда бы можно было почерпнуть глубокие и обширные сведения» [410] Цит. по: Грот Я. К. Жизнь Державина. С. 45.
.
Чуждость для Державина литературных вкусов поколения Блудова объяснялась приверженностью старшего поколения литературным принципам XVIII столетия. Грот считал, что следы влияния «писаний Сумарокова и Тредьяковского, читанных Державиным в молодости, никогда не переставали более или менее отражаться на его собственных сочинениях, особенно прозаических» [411] Там же.
.
Литературные вкусы поколения Блудова были более утонченными. «Новое поколение, по словам А. С. Пушкина, воспитанное под влиянием Европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения» [412] Пушкин А. С. Дневники. Записки. СПб., 1995. С. 64.
. Блудов воспользовался преимуществами, доступными ему в сфере образования, которых не хватало Державину, но при этом он не стал ни поэтом, ни видным литератором. В дипломатический период своей жизни Блудов состоял «при литературе», имел организационный талант, и благодаря этому служил ее истинным представителям, с некоторыми из них поддерживал дружеские отношения в течение жизни.
Но и сам он не был лишен зоркости литературного критика и способностей сатирика, высказывал суждения о назначении и предназначении писателя. Блудов считал, что писатель служит добродетели. И никакой писатель не возьмет на себя «защищение» порока «пред лицом вселенной!» «Обличенный в преступлении порок шествует во тьме, с трепетом, с угрызениями, под личиною притворства. Он охлаждает писания и унижает дарования», — писал Блудов [413] Блудов Д. Н. Статья о «пользе письмен». Ответ Ж. де Местру /Майофис М. Воззвание к Европе… С. 752.
.
Общение Блудова с Державиным, в том числе и знакомство с его творчеством не прошло для племянника бесследно. Во-первых, круг Державина представлял интеллектуальную и государственную элиту и формировал определенное пространство идей и этики, отношение к государственной службе, монархии, интересам Российской империи, составляя, таким образом, почву для традиции, влияние которой в дальнейшем не всегда в полной мере осознавалось, но в сочетании с которой появлялись ростки нового.
С. С. Уваров вспоминал: «…дом Державина был важным двигателем тогдашней литературной жизни. Если это движение не принесло больших плодов, оно, по крайней мере, свидетельствует об общей в то время, на всех ступенях общества, наклонности к занятиям литературным, особенно к поэзии лирической и драматической, — наклонности, которою отличалась по преимуществу эпоха от Ломоносова до Державина» [414] Уваров С. С. Осьмое января 1851 года / Арзамас. Сб. Кн. 1. М., 1994. С. 38.
.
А. С. Пушкин считал, что его поколение должно быть благодарно старшему поколению за оживление литературной жизни. Свое письмо А. А. Бестужеву, написанное в начале июня 1825 г. в Михайловском и посланное в Петербург, Пушкин окончил упреком: «…и спасибо не сказал старику Шишкову. Кому же, как не ему обязаны мы нашим оживлением?» [415] Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. М., 1962. С. 160.
.
В отношении Блудова к Державину очевидно, что поэзия дяди оказала судьбоносное воздействие на жизненные принципы и стратегии племянника. Особый интерес в этом отношении представляет «Идиллия, сочиненная в Александровском на случай маскерада, бывшего в 1778 году июля 18 дня» с подзаголовком «Подражание г. Геснеру», опубликованная Державиным в «Санкт-Петербургском вестнике» в сентябре 1779 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: