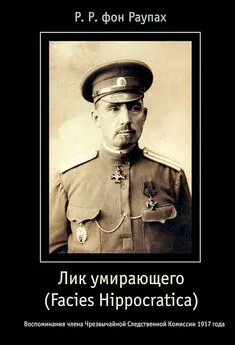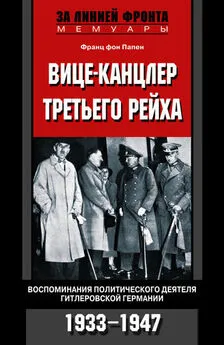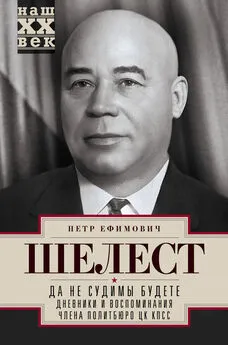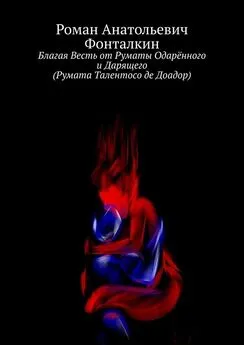Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Название:Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя: Международная Ассоциация «Русская Культура»
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-355-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года краткое содержание
«Лик умирающего» — не просто мемуары о жизни и деятельности отдельного человека, это попытка проанализировать свою судьбу в контексте пережитых событий, понять их истоки, вскрыть первопричины тех социальных болезней, которые зрели в организме русского общества и привели к 1917 году, с последовавшими за ним общественно-политическими явлениями, изменившими почти до неузнаваемости складывавшийся веками образ Российского государства, психологию и менталитет его населения. Это попытка, одного смелого человека, заглянуть в «лицо умирающего больного», коим было Российское государство и общество, и понять, «диагностировать» те причины, которые приковали его к «смертному одру». Это публицистическая работа, содержащая в себе некоторые черты социально-психологического подхода, основанного на глубоком проникновении в социальные, культурные, поведенческие и иные особенности российского этноса.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И так, причины побудившие министра Сазонова склонить Царя к активному участию в Европейской войне сводилось к трем мировым задачам России: овладению проливами, объединению славянства и поддержке престижа ее на Балканах путем заступничества за младшего брата — Сербию.
Что взгляды Сазонова разделялись людьми его круга, видно из замечания генерала Лукомского в его воспоминаниях: «Россия не могла изменить своей традиционной политики и предать маленькую Сербию». — «Поводы», — пишет генерал Деникин в «Очерках смуты», — «были чужды какой-либо агрессивности или заинтересованности с нашей стороны, вызывались искренним сочувствием к слабым угнетенным, находились в полном соответствии с традиционной ролью России».
Среди всех стоявших у власти людей только три человека имело мужество открыто высказаться против войны. Этими людьми были: Григорий Распутин, опальный сановник граф Витте и наш посол в Северной Америке барон Розен 22 . Граф Витте с самого начала войны утверждал, что Россия будет первой из тех, кто попадет под колесо истории. До последних дней своей жизни он не переставал призывать к немедленному, во что бы то ни стало, прекращению войны. Барон Розен, в своей мало распространенной брошюре, ссылаясь на опыт японской войны, доказывал полную невозможность воевать с Германией и утверждал, что только немедленное заключение с нею мира может избавить Россию от неизбежной гибели.
Для русского народа война была и осталась чуждой и ненужной, и на стороне Царя оказались лишь промышленники, чиновники и то высшее военное начальство, телефоны которых портились, когда этого требовали их личные честолюбивые замыслы.
Преждевременной была война и для армии. В 1909-м году, то есть за 5 лет до Европейской войны, когда под председательством Государя состоялось совещание по поводу аннексии Боснии и Герцеговины, тогдашнему военному министру, генералу Редигеру был поставлен вопрос: «Готовы ли мы к активной деятельности?» Он ответил на него отрицательно. Министр юстиции Щегловитов предложил другой вопрос: «Способны ли наши вооруженные силы оградить страну от вторжения в ее пределы». Редигер категорически ответил, что «наши вооруженные силы совершенно не боеспособны». Из его объяснений, вызвавших тогда общий испуг, оказалось, что японская война совершенно истощила нашу материальную часть. Что же касается военной части, то демобилизация и внезапное сокращение сроков 23 службы расстроило ее кадры.
Нашу полную неподготовленность к войне сам Сазонов считал неоспоримым фактом, и безрассудство воевать было настолько очевидно для всех, что в 1913-м году, то есть всего за год до войны В. Ленин писал Горькому 24 : «Война России с Австрией была бы очень полезной для революции штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иосиф и Николаша доставили бы нам это удовольствие». А величавый в своей силе Столыпин не раз говорил Сазонову, что «для успеха русской революции необходима война. Без нее она бессильна».
И не смотря на все это, мечты о Константинополе и проливах, фантастический бред о призвании России к объединению славянства и политический сентиментализм оказались сильнее всех доводов разума, и фантазер министр, вместе с не обладавшим самостоятельным умом монархом, при молчаливом одобрении всего их окружения, пошли на разгром своей собственной страны и втянули ее в военную авантюру, стоившую миллионов жизней и приведшую государство к неслыханной катастрофе. И все это произошло в какие-нибудь полчаса, как будто дело касалось увеселительной прогулки.
Ноябрьские дни 1920-го года. На улицах Константинополя всюду слышна русская речь и толпами бродят по ним русские генералы, офицеры, моряки и солдаты. В Босфоре целая армада русских военных судов с красующимся на них Андреевским флагом и доносящимся по вечерам пением православных молитв. Что это? Осуществление сновидения Сазонова? Нет, это не победители, воздвигающие крестов на Св. Софии, не хозяева Константинополя, и не владетели проливов. Это спасшиеся остатки великой когда-то армии, обломки разгромленной русской государственности и толпы жалких, не имевших чужого приюта эмигрантов.
Мечта — прекраснейшая Дульцинея, действительность — безобразная Альдонса 25 .
II. Кровавый экзамен
Министр Сазонов в своих «Воспоминаниях» пишет: «В России всем, кто не подкапывал под ее устои, жилось хорошо и привольно». Но в старой России не подкапываться под устои значило предоставлять отечественным океанам волноваться, попечительному начальству строить какие ему угодно устои, а обывателю — жить по мудрой пословице «моя хата с краю, ничего не знаю». И вся Русская общественность, следуя правилу Сазонова, жила «хорошо и привольно».
Но среди мутного потока узкого эгоизма и погони за личным счастьем, в котором плыли все люди того поколения, и за который мы все без исключения ответственны, был островок, где материализм и нажива не царствовали, во всяком случае, не единственно. Этим островком была русская армия. В армии все-таки говорили об отечестве другим языком, чем в приказах губернаторов и исправников. В армии понимали и ценили красоту подвига и жертвы и не считали умным только того, кто лучше других защищал и продвигал свое собственное «я». И оттого-то эта армия в лице своего офицерства и оказалась тем единственным элементом нашей общественности, который, исполняя свой долг, сопротивлялся распаду русской государственности и в защиту ее принес неисчислимые жертвы.
Строевым офицером в армии я служил очень недолго и в том счастливом возрасте, когда не слишком вглядываешься в свою и окружающую жизнь, и не останавливаешься на ее мелочах и часто неинтересных подробностях. Наблюдать потому и познакомиться с армией, с ее культурой, то есть бытом и ментальностью мне пришлось лишь в тяжелые годы Великой Войны. Участвовал я в ней в качестве военного юриста — органа, на войне совершенно бесполезного 26 , ибо там, где всякое наказание освобождало виновника от смертельной опасности боя, оно являлось не наказанием, а побудительной причиной к совершению преступления. На фронте устрашающее значение имеет только смертная казнь, ибо только она одна обращает возможную утрату жизни в окопах в неизбежную ее потерю при расстреле.
Все преступления на войне сводились к грабежу и дезертирству путем членовредительства, и военные начальники, не обращаясь к военным юристам, боролись с этим явлением сами. Они посылали виновных в самые опасные места, и тем достигали известного устрашения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: