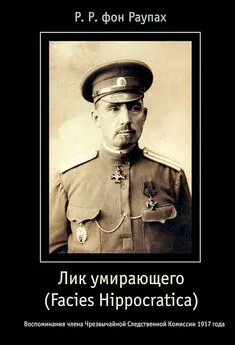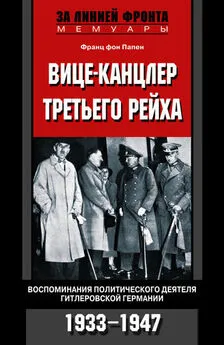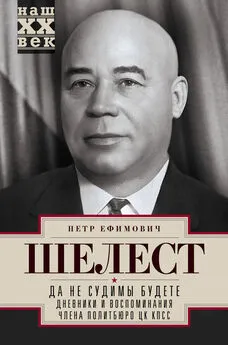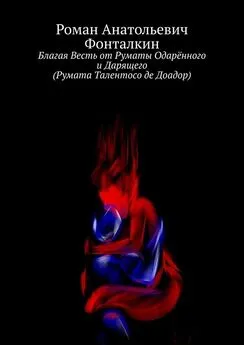Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Название:Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя: Международная Ассоциация «Русская Культура»
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-355-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года краткое содержание
«Лик умирающего» — не просто мемуары о жизни и деятельности отдельного человека, это попытка проанализировать свою судьбу в контексте пережитых событий, понять их истоки, вскрыть первопричины тех социальных болезней, которые зрели в организме русского общества и привели к 1917 году, с последовавшими за ним общественно-политическими явлениями, изменившими почти до неузнаваемости складывавшийся веками образ Российского государства, психологию и менталитет его населения. Это попытка, одного смелого человека, заглянуть в «лицо умирающего больного», коим было Российское государство и общество, и понять, «диагностировать» те причины, которые приковали его к «смертному одру». Это публицистическая работа, содержащая в себе некоторые черты социально-психологического подхода, основанного на глубоком проникновении в социальные, культурные, поведенческие и иные особенности российского этноса.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У нас все сложилось совершенно иначе.
По справедливому замечанию генерала барона Будберга 34 , русская общественность «охулиганила» русский народ, сделала из него шкурника, понимавшего только животные инстинкты и вожделения, и убила в нем все те высокие чувства, которые живут в бессознательных глубинах каждого даже первобытного человека.
У нас не только не было единения, но наоборот, политическая и междуведомственная рознь стали глубже, и никогда узкое честолюбие, эгоизм и оскорбленное тщеславие не проявлялись с такой силой, как во время войны. О жертвенности и самоограничении не было и речи. Всю буржуазию приходилось силой посылать на фронт, и не было никаких средств, бороться с ее дезертирством. Она служила сторожами и писарями, устраивалась в разного рода «работавших на оборону» комиссиях и организациях и пускалась на всякие ухищрения, лишь бы избавиться от лишений и опасностей фронта. Земский союз 35 , о котором вся печать в пику правительству кричала, что это единственная организация, которая несет всю тяжесть снабжения армии, на самом деле был приютом для целой кучи маменькиных сынков, ловких людей, аферистов и всяких бездарностей мужского пола. «Журналист, — говорит писатель И. Наживин 36 , — заведовал там закупкой скота, старый адвокат ведал кожевенным отделом, а барышни не знали, что такое припек и откуда он берется».
Война создала у нас одно, над всем доминировавшее стремление — жажду наживы. Дух материализма насмерть убил всякую идейность и не оставил ни одной искры того огня энтузиазма, без которого немыслим успех ни одного крупного народного движения.
Ужасное состояние государства после падения Риги и Эзеля не помешало, однако, железнодорожникам потребовать увеличения их содержания не более и не менее как на четыре миллиарда рублей в год, и сопроводить это требование ультиматумом с угрозою остановить транспорт на всей территории страны. А ведь это означало угрозу уморить голодом не только тыл, но и армию, оставив ее без хлеба, фуража, снарядов и пополнения.
Страшно было читать в английских газетах о той жесточайшей нужде, которую испытывали томившиеся в концентрационных лагерях русские военнопленные. Их французские и английские товарищи по несчастию с недоумением глядели на их заброшенность и унижение, когда мучимые нестерпимым голодом, они рылись в помойных ямах и отбросах. Пленные англичане и французы получали от своих сограждан по одной посылке в неделю, наши — одну в четыре, пять месяцев, и то не всегда.
Нельзя вести войны в таких уродливых, до нельзя обидных условиях, когда одна половина России, одетая в серые солдатские шинели, плохо обутая и полуголодная, годами сидела в сырых окопах, а другая праздно веселилась и благоденствовала в тылу, когда одни ежеминутно ожидали смерти, а другие предавались азартной наживе и удовлетворению своих страстей. Нельзя, ибо те, которые сидели в зловонных окопах, день и ночь думали о конце этого кошмара, а те, которые фланировали по улицам тыловых городов, веселились и кричали: «Война до победного конца». Нельзя, потому, что этот крик был чистейшим издевательством, грубым и бесстыдным лицемерием, ибо «патриоты», проявлявшие им свои чувства и стремления, самым бесстыдным образом уклонялись от всякой прикосновенности к войне и ее ужасам, и сидя в тылу наслаждались бездельем, а часто еще наживали и баснословные деньги на подрядах и поставках. Достаточно сказать, что когда поднялся вопрос о смене измученных и усталых фронтовых врачей тыловыми, то огромная Москва дала только двух врачей, пожелавших сменить своих измученных товарищей.
Фронт изнемогал — тыл был безразличен, фронт ходил босой — тыл торговал казенными солдатскими сапогами, фронт голодал — тыл не давал хлеба.
Все воззвания, программы, резолюции — все это была лишь блестящая поверхность русской жизни. В толще ее было полное равнодушие ко всему государственному, и ничего, кроме жажды наживы, там не было.
«Поговорите с рядовым русским крестьянином Костромской, Рязанской или какой угодно другой губернии, — пишет Ф. Сологуб 37 в одном из своих фельетонов „Тоска и страх“».
«— Немец-то ведь Ригу взял!
— Нам что, мы об Риге не слыхали, нам Рига ни к чему.
— Ну а коли к вам, в Кострому придет.
— Не придет.
— Ну а вдруг придет?
— Нам что, мы и с немцами будем жить, немец тоже деньги платит».
Разницы между своей и чужой государственностью народная масса просто не понимала, и от того в ней не было и не могло быть ни патриотизма, ни чувства национального достоинства. Но таким «непонимающим» был не один только темный и безграмотный крестьянин. Февральская революция показала, что в сущности, всей русской буржуазии ни до чего кроме личного благополучия никакого дела не было. Дикий и не вещественный эгоизм, непонимание общественной пользы и совершенное безразличие к национальной чести у этой общественности были те же, что и у Костромского крестьянина. Один словесный патриотизм остался у нас и после революции, и февральские дни ни у кого не вызывали сознания, что личное «я» должно растворяться в интересах коллективного, и что во имя последнего всякая личная жертва должна стать возможной и легкой. Отсюда безудержное стремление к наживе, а вместо жертвенности — погоня за удовольствиями и наслаждениями.
Живя только заботами о личном благополучии, дореволюционная Россия наивно верила в свое мессианство, в то, что самим Провидением предопределено ей сменить обветшалые германские и романские народы.
Действительность показала, что осуществление этой веры одними молебнами не достигается.
С кровавого экзамена Россия ушла опозоренной и в европейском оркестре заняла место — за турецким барабаном.
III. Воинственность
За две с половиной тысячи лет до Гексли 38 и Дарвина 39 один из величайших философов античного мира Эфесский аристократ Гераклит Темный 40 впервые открыл закон, положенный в основание всего мироздания — это закон борьбы. На знаменитейшем из сохранившихся его фрагментов начертано: «Борьба есть правда мира, отец и царь всех вещей. Должно знать, что война есть общий закон, что справедливость есть раздор и что все возникает и уничтожается в силу раздора». Миролюбие Гомера 41 , призывавшего богов и людей к прекращению раздоров, представляется Гераклиту величайшей опасностью, угрожающей разрушением и гибелью всему мирозданию, сотканному из борьбы различий. «Миром правит Зевс-Птолемос, бог борьбы, и его железный закон — всеобщей розни. Ценность бытия в вечной смене и беспрерывном потоке явлений».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: