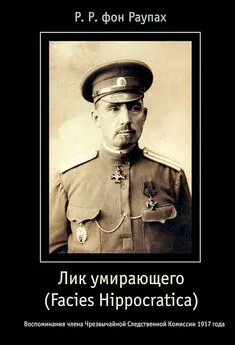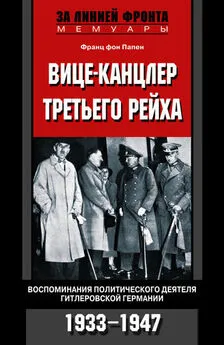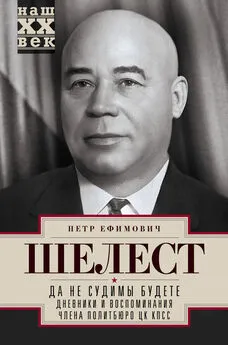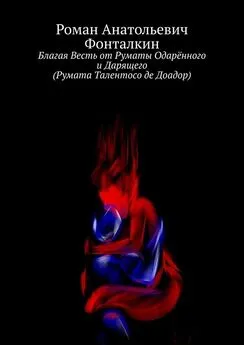Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Название:Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя: Международная Ассоциация «Русская Культура»
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-355-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман фон Раупах - Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года краткое содержание
«Лик умирающего» — не просто мемуары о жизни и деятельности отдельного человека, это попытка проанализировать свою судьбу в контексте пережитых событий, понять их истоки, вскрыть первопричины тех социальных болезней, которые зрели в организме русского общества и привели к 1917 году, с последовавшими за ним общественно-политическими явлениями, изменившими почти до неузнаваемости складывавшийся веками образ Российского государства, психологию и менталитет его населения. Это попытка, одного смелого человека, заглянуть в «лицо умирающего больного», коим было Российское государство и общество, и понять, «диагностировать» те причины, которые приковали его к «смертному одру». Это публицистическая работа, содержащая в себе некоторые черты социально-психологического подхода, основанного на глубоком проникновении в социальные, культурные, поведенческие и иные особенности российского этноса.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Лик умирающего (Facies Hippocratica). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Роль Сталина в гражданской войне была очень значительная. Деятельность Главнокомандующего Троцкого, им же разрекламированная, сводилась к принятию схем, разработанных старым генеральным штабом, произнесению речей и разъезда по фронту в комфортабельных поездках, в которых он привозил солдатам кожаные куртки и прочие подарки. Сталин показной роли не играл, о себе никогда не писал и не командовал, а шел в борьбу сам.
Заслуги его, как организатора армии и руководителя военными операциями, были огромны. Надо было обладать крупными способностями, чтобы без всякой специальной подготовки так умело разбираться в сложных стратегических вопросах, как это сделал Сталин в последнюю борьбу на южном фронте, решившую исход всей гражданской войны.
Железная воля и фанатическая вера в идею, которую он умел передать всем своими соратникам, давали им то, что прежде всего необходимо всякому воину — несокрушимую веру в вождя и в конечную победу.
Сталин не теоретик, это прирожденный правитель. Его интересует сегодняшний день, а не отвлеченные идеалы. А сегодня ему надо было накормить голодные города, раздобыть во что бы то ни стало мануфактуры, обуть людей, обеспечить их жилищами, бороться с хулиганством, предотвращать забастовки и прежде всего, побеждать на фронте. Как все властители, он никого и ничего не жалел для достижения того, во что верил. Это всесокрушающая сила, без нервов, без слабости, без долгого размышления. Прекраснодушие, сентиментализм и халатность — вне его духовного мира. Он беспощаден, но чудовищной трудности задачи требуют и чудовищных мер. «Мы не из тех, кто боится трудностей, — говорит он в одной из своих речей, — Кто их боится, пусть даст дорогу тем, кто сохранил мужество и твердость».
Если представить себе историю в образах русской девушки, то ее отношение к руководителям борьбы наших белой и алой роз, определилось бы так:
«Я ненавижу безволия, смеюсь над наивностью, люблю идейность и обожаю героизм».
VIII. Что было бы…
Достоевский в «Дневнике писателя» (1877 год) говорит, что ошибки ума излечиваются неотразимой логикой событий живой действительности и исчезают без следа. Не то с ошибками сердца. Это зараженный дух, несущий с собою такую слепоту, которая не излечивается никакими фактами, сколько бы они не указывали на прямую дорогу.
Этой именно слепотою страдало все, что участвовало в белом движении.
Главнокомандующий генерал Деникин был и остался уверенным, что он ведет «освободительскую войну» и спасает русский народ. От кого спасает? От него самого, ибо «большевики» было лишь удачно найденное слово, которым белые прикрывали, в сущности, всю народную массу.
Антибольшевизм с момента своего возникновения был и до конца остался движением классовым, реакционным и реставрационным. Все его участники отрицали революцию начисто и не желали видеть в ней того исторического барьера, за которым начиналась новая эпоха жизни русского народа. И потому белые знамена несли в себе одно голое отрицание. Но ради ненависти и мести люди не отдают своей жизни. Кто умирает, тому нужен положительный пароль, новое слово, ставящее себе национально-государственную задачу, тому нужен такой лозунг, который способен зажигать сердца. Но этот прекрасный цветок вырастает только на долго и тщательно удобренной почве. Ее в белом стане не было. Там не было ни идейности, ни любви к родине, ни забот о будущем. Веками жившая в атмосфере, где всякая идейность являлась лишь объектом для насмешек, наша общественность превратилась в болото, удушливые испарения которого ее же и отравляли. Ей надо было жить, делать карьеру, устраивать свои дела, а там кому служить — это было безразлично. Отсутствие идейности и было первой причиной неудачи белых.
Вторая причина лежала в характере власти и недостатках системы.
«Понятие тыла, — пишет Главнокомандующий генерал Деникин, — обнимало все невоюющее население и всю общественность. Приписывать развал тыла недостаткам системы — значит не понимать, что явление это вытекало из исконных черт нации и являлось такой преградой, одолеть которую не могла бы ни одна „система“… Это была давняя традиция».
В этом объяснении, конечно, много справедливого, и видеть в системе единственную причину неудачи было бы ошибочно, но одной из них она несомненно являлась.
Безмолвие и его неизменный спутник — страх перед правдой — создали то стремление принимать желаемое за сущее, которым характеризуется вся деятельность руководителей белого движения.
Профессор князь Трубецкой докладывал правому центру, что стоявшие во главе Добровольческой армии лица считают весь большевизм выдумкой немцев и находят, что «немец был враг и притом нечестный враг, придумавший удушливые газы, а потом и самих большевиков». И эта оценка большевизма командным составом не есть просто недоброжелательная насмешка со стороны князя Трубецкого. Она вполне соответствует утверждению помощника Главнокомандующего генерала Лукомского в его «Воспоминаниях», что «немцы не в честном бою, а подлыми предательскими приемами погубили нашу армию и продали Россию в руки большевиков».
Чем, кроме «зараженного духа», кроме пагубной склонности к самоублажению можно было бы объяснить, что стоявшее на высших ступенях военной иерархии и призванное руководить сложнейшими событиями лицо, дает этим событиям оценку по наивной простоте своей присущую разве что ученику подготовительного класса.
Эта боязнь называть вещи своими именами исключала всякую возможность трезвой оценки событий и людей, то есть то качество власти, без которого она утрачивала свое значение.
Требовалась ни перед чем не останавливающаяся решимость и ни перед чем не приклоняющаяся железная воля, надо было повесить нескольких губернаторов и командующих войсками, а между тем, этим и всякого рода другим хищникам, рвавшим все, что только им ни попадалось, напоминали евангельские истины, и виновниками всех переживаемых огорчений считали не их, а немцев и большевиков.
Мудрый совет Лассаля 92 честно смотреть в глаза «тому, что есть», из жизненной программы белого движения был исключен.
Третья причина неудачи лежала в нашей общественности. Главнокомандующего генерала Деникина резко осуждали за неумение уберечь армию от развала, и еще более за ужасающую разруху тыла. Говорили, что он слаб, что его надо сменить. Но что мог бы сделать один человек, даже с железной волей и самой непреклонной решимостью, с беспринципным и безыдейным человеческим стадом, равнодушным ко всему, кроме собственного благополучия. Даже ветхозаветный пророк не сумел бы зажечь благородным и высоким порывом сердца людей, плативших по шесть тысяч рублей за бутылку шампанского и распивавших ее в обществе накрашенных девиц, в те самые минуты, когда в предсмертной агонии умирало то святое дело, которое они же называли «освобождением опозоренной родины».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: